



Рубрики статей: |
Недоигранная партия. Юлий Герцман.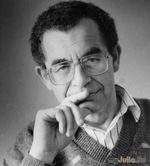 После обеда меня вызвал Луёк. На самом деле он был Луйк – Ханс Карлович Луйк, но эта фамилия будила у неэстонцев не вполне пристойные ассоциации, которые и трансформировали ее поближе к образу.
После обеда меня вызвал Луёк. На самом деле он был Луйк – Ханс Карлович Луйк, но эта фамилия будила у неэстонцев не вполне пристойные ассоциации, которые и трансформировали ее поближе к образу.
Фамилия Ханса Карловича была не уникальной, более того – вполне заурядной, распространенной. Что там – Луйк, в телефонной книге г. Таллинна было не менее десятка граждан с похожей фамилией, в которой вместо первого «Л», стояло совсем каноническое «Х». И ничего – понимали: так уж сложился эстонский язык, что мирная для слуха коренной нации фамилия, скажем, Пердахер, вызывает мелкую дрожь чужеродной челюсти. Это было чисто эстонское явление – у соседних латышей подобных языковых изысков в помине не было, они добавляли окончание «...ис» к мужским фамилиям, обогащая мир Жвирблисами и Зитманисами, и даже мне влепили в паспорт на страничке союзной республики фамилию Герцманис, но вот, скажем, внятные русскому уху фамилии Сифилис или Пенис там не наблюдалось. Не то – в Эстонии. Однажды, помню, я принес очередную юмореску в газету «Советская Эстония». Дверь в отдел новостей была открыта. За столом у окна сидел корреспондент отдела Сергей Довлатов и печально смотрел на телефон. Вокруг собралась радостная толпа коллег, человек восемь. Я спросил, в чем дело. – Он должен позвонить инструктору горкома и договориться об интервью, а у того фамилия – Хуймерин. Вот – сидит наш Серега, страдает из-за родительного падежа. – Я не могу позвать к телефону гениталии мерина, – звучно сообщил Довлатов, – это противоречит моим творческим принципам. Я – реалист и не могу взывать к отсутствующим органам, а у мерина нет гениталий, он – кастрат. – Так правильно! – утешил страдальца один из доброхотов. – Его кастрировали и – в колхоз, а гениталии, чтоб не пропадали – на партийную работу. – Нет, – твердо ответил Довлатов, – кастрировать можно только жеребца. Если бы у него фамилия заканчивалась на «жеребец», я бы с удовольствием попросил, а так – извините! Я не Георгий Марков, чтобы фантастикой заниматься. – Значит так, – вмешался завотделом, – или ты сейчас же позвонишь, или я доложу редактору, что ты отказываешься от задания. Довлатов с видимым усилием набрал номер и четко попросил к телефону инструктора. Назвав того по фамилии, но просклоняв обе части этой фамилии по отдельности. И в ужасе швырнул трубку. Толпа рассасывалась на четвереньках. Содержательность фамилий не всегда приводила к таким драматическим результатам. В пароходстве, где я в то время работал, праздновали юбилей начальника технического отдела Валентина Александровича Барона. На торжественном вечере его поздравляли товарищи Принтс, Грахв и Херцог. Последний, правда, был евреем. «Палата, ***, лордов, а кто же от простонародья будет?» – давясь, прошептал сидевший рядом сотрудник. «От имени рабочих судоремонтных мастерских, – объявил ведущий, – дорогого юбиляра поздравит товарищ Хирнюк!» И зачем-то добавил: «Через «И». Ханс Карлович был начальником отдела кадров Эстонского морского пароходства. Он принимал меня в свое время на работу и изумил почти до потери пульса. – Еврэ-эй, – отметил он, просматривая мою хилую анкету, – беспартийный. Это хорошо-о, что еврэ-эй и хорошо, что беспартийный. То, что евреем быть хорошо, я догадывался, хотя жизнь властно пыталась разуверить в этом. Что хорошо быть беспартийным – будило нездоровое любопытство. Но услышать и то, и другое из уст начальника отдела кадров! Этого просто не могло быть, потому что быть не могло! – Извините, – проблеял я, – недопонимаю. – Что ж тут недопонимать? Придет разнарядка на пароходство: принять в партию молодого интеллигента, хорошо, еврея – а мы уже готовы, вот он: ведущий инженер еврейской национальности. Вам, товарищ Герцман, нужно только сначала получить общественное поручение и вступить в СС. Я терял сознание. – Куда? – Какой Вы непонятливый, – по-доброму пожурил Луёк – в СС, в социалистическое соревнование. Поучаствуете год-два, а там разнарядка придет и – милости просим в нашу коммунистическую партию! К коммунистическим идеалам у нас в семье отношение было паршивое. Папа в 1943 году на фронте вступил в ВКП(б), но в 1948 году, за полгода до моего рождения, партия гневно его исторгла. Потом, в 1957 году партия сделала вялую попытку вторгнуть отца обратно, но он вторгаться не пожелал. Он не устраивал никаких демонстраций, не стучал кулаком по столу и не впадал в антипартийные истерики – просто, один раз, когда парткомиссия должна была собраться по его вопросу, заболел, а во второй раз ему срочно понадобилось поехать к брату в Донецк. В конце концов, партия облегченно вздохнула и прекратила дальнейшие попытки возвращения блудного сына, а папа загубил карьеру и вышел на пенсию простым учителем, а мог бы дослужиться, гляди, и до завуча. Наиболее четкое отношение к передовому отряду было сформировано у моей бабушки, маминой мамы: коммунистов она называла не иначе как бандитами мит а ройте бихалых. «Что ты думаешь, – говорила она мне вполголоса, – если бы его тогда не послали в санаторий, он был бы таким же бандитом». Бабушка зятя откровенно не любила, но партию она любила еще меньше. Меня же отец воспитал просто: – Ты туда сам не лезь, нечего тебе там делать. Но если будут втягивать, тогда что же... И среди них люди есть. В общем, я, с одобрения Ханса Карловича, вступил в СС, взяв обязательство сдать два кандидатских экзамена и написать программу расчета остойчивости сухогрузных судов на языке программирования «Фортран» (эта программа у меня была написана еще на предыдущем месте работы – в ВЦ Латвийского пароходства, и я просто приволок с собой из Риги перфокарты). Луёк доброжелательно следил за мной, и через год поддержал мнение начальника ВЦ о производстве меня в чин начальника отдела постановки задач АСУ. Против этого резко возражал заместитель начальника центра Валентин Иванович Прейсс, узнавший каким-то образом, что это я подписал его на журнал «Корейская женщина» и каждый раз возобновлял подписку, когда он от нее отказывался, но поддержка Луйка оказалась решающей, о чем он мне сам с гордостью сообщил. Очевидно, мое пребывание в должности начальника отдела позволяло поставить галочку еще в какой-то таинственной графе пригодности. И вот теперь он меня вызывал. – Товарищ Герцман, в данном случае я вас не вызывал, а пригласил, и не как начальник отдела кадров, а как заместитель секретаря партбюро. («Ну – хана, началось, – тоскливо подумал я, – сейчас скажет, что я уже созрел»). В партию пока мы вас принимать не будем («Слава те, господи!»), разнарядки на вашу нацию нет, но у меня есть для вас общественное поручение, которое нам поможет потом. Всем своим видом я выражал истовую благопотребность, даже поджал, кажется, пальцы ног. – Мы рекомендуем вас в члены наблюдательной комиссии Морского райисполкома по надзору за исправительно-трудовой колонией № 5. Подробности расскажут на инструктаже, но, главное, помните, что работа в колонии – хорошая рекомендация для коммуниста. Кто бы сомневался. На инструктаж мы собрались в кабинете нашей начальницы – зампреда Морского райисполкома Сирье Антсовны Пийрсоо, голенастой, хорошо откормленной дамы, бойко говорившей на плохом русском и вообще, как выяснилось, не знавшей эстонского. Сирье Антсовна, несмотря на паспортную национальность и имя, была сибирячкой, такие попадались не так уж редко. Местные эстонцы их ненавидели. Впрочем, местные эстонцы ненавидели всех, включая самих себя. Не зря народное творчество родило максиму: «Любимое блюдо эстонца – другой эстонец». Членствовать в комиссии выпало преподавательнице швейного ПТУ им. В. Клементи Светлане Николаевне (Николаевне, Нидвораевне – судя по задрюченному виду), живенькому аккордеонисту Вите Челобьяну из Дома Офицеров, массивному экскаваторщику Вальтеру Ленку и мне. Мы представляли советскую власть в ИТК № 5 на улице Магазиини (предлагаю читателям самим перевести это название с эстонского на русский). То есть, именно к нам должны были обращаться исправляемые трудом колонисты с вопросами, выходящими за пределы компетенции лагерного руководства, а также жалобами на эту самую администрацию. Кроме того, мы решали вопрос о достойности конкретного заключенного условно-досрочного освобождения и отправки на спецпоселение. На химию, говоря по-простому. То есть, направлял, конечно, суд, но суд без нашей рекомендации дело к производству не принимал, а нашу рекомендацию – при наличии таковой – одобрял безоговорочно. Колония была мужская. Вход – через самую заурядную проходную с пластмассовой кнопочкой звонка. Вторая дверь, правда, уже была стальной и отъезжала в сторону. Встретил нас сам начальник колонии майор внутренней службы товарищ Пуусеп. Он быстренько провел нас к административному зданию. У него в кабинете уже сидел заместитель по воспитательной работе капитан Сергунин. На лице офицера Сергунина большими буквами было написано, что предъявитель сего лица является мудаком первой степени и вопросам не подлежит. Надо сказать, что у самого Пуусепа, как раз, лицо было вполне нормальное, с симпатичной хитринкой. – Павел Степанович, – велел Пуусеп заместителю, – покажи товарищам столовую, общежитие и производку. Пусть знают, над чем наблюдать будут. В столовой настойчиво пахло тоской по бане и гнилой рыбой. Тем не менее, было чисто. Спальное помещение было камерного типа, на шестнадцать человек камера, двухэтажные нары. Запах царил и там. Производка тоже не обошлась без амбре. Даже трудно себе представить, как можно было наполнить такую огромную конюшню таким плотным смрадом. Наполнили, однако. Производство заключалось в пошиве спецовок, рукавиц и кепок. Несложный процесс не увлек надолго, и мы лихо затрусили к выходу, но тут в Светлане Николаевне проснулось профессиональное любопытство, и она, отбившись от стаи, подошла к ближайшему швею-мотористу. Трудящийся заключенный, не поднимая головы, мгновенно сунул ей руку под юбку. На его бугристом лице расплылось блаженство. Крик педагога был громок и визглив. Жажда бури, сила гнева, пламя страсти и уверенность в победе в нем не чувствовались, орала как зарезанная. – ОсУжденный, встать! – завопил Сергунин. Осужденный встал, не вынимая руки из-под юбки. Юбка, естественно задралась и открыла миру длинноватые трикотажные трусы члена наблюдательной комиссии. Трусы были немаркого оттенка. Николаевна вопила что есть сил. Челобьян получал полное удовольствие. Вальтер сиял. Товарищ Пийрсоо стояла столбом. Я застенчиво потупился. – Опустить руку! Как ты... вы смеете? – воспитывал заключенного капитан. – Гражданин капитан, а я здесь причем? Я сижу, работаю, протянул руку, чтобы поправить шпульку, а тут мне гражданка на руку и наделась. Может, даже палец сломала с размаху боевым местом, болит, отпустите в медпункт, гражданин начальник! – Я же только хотела проверить, – рыдала Светлана Николаевна, – как он шов кладет, ровно или нет! – Вы бы, товарищ член, соображали, где находитесь! – строго выговорил ей капитан – Это – колония, здесь преступники! А вы – шов. Они вам шов не наложат, они его распорют, гы-гы-гы... Затем нам показали клуб, где над сценой красовались выпиленные из фанеры и скупо крашенные серебрином буквы, сбитые в одобрение: «Верной дорогой идете, товарищи!» – что в конкретных обстоятельствах звучало несколько двусмысленно. По обе стороны резолюции висели портреты Ильичей: слева – вечнозеленого, справа – текущего. Портреты, видать, были выполнены местным художником: у левого был паханский прищур и отвратительная улыбка, а правый смахивал на товарища Пуусепа, но с душевными бровями. Почувствовав себя в родной стихии, Челобьян влез на сцену и от полноты чувств запел на мелодию Нино Рота: Над диспансером светит круглая луна, Прости, мой друг, но я, увы, опять больна. Пенициллин, стрептомицин – Вся моя жизнь антибиотиков полна. Так началось исполнение моего общественного поручения. Колония была общего режима, преобладали «бытовики». Полосков Иван Игоревич, 57 лет, осужден на шесть лет за попытку откусить половой орган у собутыльника. Во время употребления спиртных напитков Ивану Игоревичу понадобилось по нужде, подзадержался, вернувшись, обнаружил, что коллега вступил с женой Ивана Игоревича в процесс совокупления. («Как же он кусал, – заинтересовался я, живо представив процесс, – орган же был того... внутри?» «Сначала он укусил за жо... ягодицу, тот выдернул, ну и... Хорошо, что не до конца. Сел бы на десять!») После четырех лет безупречного труда – на поселение в Кохтла-Ярве с привлечением к труду на химкомбинате. Кыйв Хейно Юулович, 35 лет, повторник, разбил витрину парфюмерного магазина и украл одеколон «Цветочный» в количестве десяти единиц. По первому разу дали бы условно, но повторнику – два года. Отсидел год – на химкомбинат в город Маарду. Шейнер Пинхус Лазаревич, 42 года, неожиданный хулиган. Вырвал руль у водителя троллейбуса и выехал на тротуар. Не справился с управлением, вмазал троллейбус в здание «Эстонэнерго». Обошлось без жертв. На суде показал, что из-за развивающейся близорукости ошибочно увидел двоюродного брата, который два года назад взял взаймы двести рублей и с тех пор не показывался. Три года. Отсидел два. Кохтла-Ярве. Они проходили перед нами по десять-пятнадцать за прием. Мы выслушивали летопись деяний, затем Сирье Антсовна задавала один и тот же вопрос: «Вот мы вас рекомендуем на условно-досрочное освобождение, а как вы собираетесь дальше жить?» Ответы следовали мгновенные и однообразные, планам жизни позавидовали бы Альберт Швейцер, мать Тереза и доктор Спок вместе взятые. Все хотели честно трудиться, растить детей и переводить бабушек через дорогу. Мы дружно поднимали руки, народ условно освобождался, условно жил, условно работал и максимум через два года семьдесят процентов возвращались обратно. За все время жалоба была только одна. Заключенный Модзалевский Казимир Севастьянович просил, чтобы его перевели из колонии в тюрьму. Казимир Севастьянович был карманник. Очень удачливый карманник – за тридцатилетнюю карьеру его ни разу не поймали. В расцвете, однако, сил Казимиру Севастьяновичу захотелось почестей. Короноваться ему захотелось. Возражения в высшем воровском обществе отсутствовали – Казимир Севастьянович был авторитетным щипачем, но имелась загвоздка: надо было сесть. Без ходки, вроде, было нельзя. Казимир Севастьянович нагло полез к какой-то тетке в сумку и, улыбаясь, дал себя поймать. Так как наш герой был первостатейным пижоном, то решил организовать свой процесс по первому классу. Защищать Модзалевского из Риги приехал знаменитый адвокат Миттельман. Он произнес блестящую речь, которая, как выяснилось, погубила весь творческий замысел – Казимиру Севастьяновичу дали два года колонии общего режима. Это было фиаско – в таких колониях законники не сидели, и короновать Модзалевского было физически некому. Он стал бомбардировать начальство просьбами о переводе. Ему отказывали. Он стал нарушать дисциплину, но начальство вошло во вкус и, потешаясь, закрывало глаза. А срок тикал – до выхода оставались считанные месяцы, и все – прощай корона, поэтому Казимир Севастьянович решился на последнюю меру: обратиться к советской власти. Он взывал к ее гуманизму и обещал отдать все силы построению всего, чего угодно, если только его переведут в тюрьму. Бедному Ванюшке везде камешки – его и здесь ждала неудача. Сирье Антсовна объяснила Модзалевскому, что советская власть милует, а не усугубляет. Казимир Севастьянович выслушал решение с видом Овода в исполнении Стриженова – гордо и надменно. Затем расстегнул ширинку, вытащил причиндал и пустил струю в онемевшую председательницу. Его тут же скрутили. Три года строгого. Я конспективно докладывал Луйку о своих успехах, разнарядки на мою нацию, слава богу, не было, кандидатские экзамены я сдал. Все было ничего, втянулся, но беспокоил меня смрад. Мне казалось, что он намертво въелся в кожу, и никакой душ уже не помогает. Я тщательно нюхал одежду, хотя жена считала это дурью, запахов не чувствуя. Я стал раздражительным. Мнилось, что на лицах коллег проступает та рыхлая бледность, которой отмечены были колонисты. Когда я слышал очередное: «Пить не буду, закончу школу», хотелось схватить графин и стукнуть кого-нибудь по голове. Можно – себя. На день рождения друзья подарили мне репродукцию знаменитой картины, где на место голубей была вклеена моя фотография. Подпись гласила: «Н. Ярошенко «Всюду жид». В тот раз мы уже пропустили пяток будущих Менделеевых. Перед заходом следующего Сергунин сказал, что тут случай особый. – Осужденный Фортуна Валерий Павлович, товарищи, является действующим петухом, я извиняюсь за выражение, пассивным педерастом. Его этот... муж Охрименко месяц назад освободился за истечением срока наказания, и Фортуна пошел по рукам, ну не по рукам, а по... ну сами понимаете. Такое дело, что у него триппер, простите, гонорея недолеченная, и он нам всю колонию перезаражает, пока долечим. Большая просьба войти в положение и отпустить петуха на химию. – А за что он осужден? – Так за это самое и осужден. Статья 121. Гомосексуализм. Четыре года. Это сейчас однополое влечение стало обыденным, как повышенный холестерол или леворукость, и даже строки Есенина: «Гей, ты Русь моя родная!» заставляют поморщиться несогласованностью – если: «Русь родная», тогда не гей, а лесбиянка, а если: «Гей», то должен быть «Рус родной». Но в те-то буколические времена, когда поцелуй мужчин означал лишь засос Леонидом Ильичем очередного партайгеноссе, вид гомосексуалиста вызывал нездоровый интерес. Предполагались изысканные страсти и тонкий запах разврата. Вспоминались Уайльд, Рембо, Чайковский наш Петр Ильич. Осужденный Фортуна, сорока с лишним лет, лучше всего описывался русским народным словом: «шибздик». Мелкий, хлопотливый с несоразмерно большим средневыбритым угреватым лицом, в котором не чувствовалось ни тонкой порочности, ни порочности обыкновенной. Вообще ничего не чувствовалось. Лицо осужденного не отличалось от лиц сотоварищей ни скрытыми страстями, ни специальной одухотворенностью. Даже описывать нечего. Чезаре Ломброзо был бы разочарован. – Фортуна, – строго сказала наша председательница, – тут руководство колонии сделало представление об условно-досрочном освобождении, но понимаете, какая здесь статья... Вы же опять начнете растлевать мужчин. Ответ был скор и боек: «Это больше не повторится! Я же понимаю, мне доверие оказывают, я на этих кобелей и смотреть не буду, а о давать и базара нет». – Ну и что же вы собираетесь делать? – Заведу семью, школу закончу, а то у меня только шесть классов. – Ну, и... – подбодрила председательница, ожидая услышать стандартные колядки, типа: стать членом общества... вымпел... передовик... – всю эту непременную туфту, без которой не обходилось ни одно благословение на химическую жизнь. – У меня мечта есть, – потупившись поделился Фортуна, – хочу поступить в институт. Народ зашевелился, так далеко планы наших пасомых прежде не простирались. Ограничивались ПТУ, техникумами, но чтобы институт... На лице Светланы Николаевны заиграла слабоумная блуждающая улыбка, педагогическое сердце расцветало. – И в какой же институт вы хотите поступить? – ласково спросила она. – Хочу поступить в Московский институт международных отношений, – торжественно объявил трудовой резерв, – имею мечту представлять Родину за рубежом. «Он издевается, – стукнуло в голову – он выеживается по-черному. Сейчас Пуусеп ему врежет!» Тишина, однако, стояла трупная. Я взглянул на Фортуну. Он не выеживался. Он смотрел тяжело и спокойно, как мне самому приходилось смотреть, принимая военную присягу или выслушивая в ЗАГСе пожелания брачующей. Я скосил глаза на коллег. Вальтер Ленк добродушно улыбался. Светлана Николаевна мечтательно смотрела вдаль. Может, ей виделось, как Посол Советского Союза Валерий Павлович Фортуна вспомнит ее, ненаглядную, и прискачет благодарно в ПТУ на белом коне женихаться. Витюша Челобьян дрых, очевидно, после вчерашнего. Товарищ Пийрсоо была похожа на памятник Терешковой, устремленный в небо. О господах офицерах и говорить нечего: оба внимательно смотрели вдаль. И тут я не выдержал. И захохотал. Неприветливым смехом. С закашливанием. С визгом и подвыванием. Залился. Замахал руками. Заерзал лбом по столу. Задыхался. Заржал. Фортуна по-женски всплеснул руками и прижал ладони к горлу. Эта скотина, небось, недавно посмотрела шедшую по всем экранам «Леди Гамильтон» и перехватила жесты Вивьен Ли. Я заржал еще сильнее. Случилась истерика. Остановиться не было никакой возможности. – Фортуна, идите, – скомандовал Пуусеп. Горестно взмахнув шапкой на прощание, надежда советской дипломатии убыла. Только тут я смог посмотреть вокруг. Вид товарищей не радовал. Светлана Николаевна смотрела злобно, офицеры – с отвращением, Витя проснулся, и только Ленк улыбался. – Ну что же вы, Юлий Петрович, – строго спросила Сирье Антсовна, – как вы можете? Кто вам дал право своим громким смехом разрушать мечту советского человека? – Ты чо, братан? – включился Челобьян, – Пидор душу открыл, а ты туда нассал. – Что за народ! – поддержала Светлана, – Никакого добра не дождешься от них, вечно с камнем, вечно... Я еще раз осмотрелся – меня окружали враги. Я нарушил правила и должен был платить. Ну не мог я им объяснить, что смеялся не над этим ничтожным Фортуной и не над его идиотской мечтой. Нет, не над ним – над собой смеялся, смеялся, что сидящий в колонии, болеющий гонореей, старше меня почти в два раза полуграмотный придурок может мечтать о карьере посла, конечно, только – мечтать, но ведь мечтает! Мечтает, тварь! А я, молодой, из хорошей семьи, закончивший институт, прочитавший больше тысячи книг – даже мечтать об этом не могу. Не могу – и все! Быть послом – не могу! Консулом – не могу! Третьим секретарем – не могу! Четвертым говночистом – тоже не могу. Пийрсоо – может. И Светлана, и Витя, и Вальтер – все могут! А я – нет! Только как же я вам об этом скажу? Никак не скажу. Поэтому я просто умолк. – Вы идите отсюда, Герцман, – уже вычеркнув меня из товарищей, сухо произнесла Пийрсоо, – без вас обойдемся. Пуусеп вызвал сопровождающего, и я покинул территорию ИТК № 5. Навсегда. – Да, не оправдали вы доверия, – без сожаления констатировал Ханс Карлович, – Ну что же, лучше раньше, чем на бюро. Через три месяца по интеллигентской разнарядке в партию приняли старшего инженера Сидоренко Василия Степановича. Сейчас он живет в Кфар Сабе. Далеко смотрел Луёк. Юлий Герцман Рейтинг: +2 Отправить другуСсылка и анонс этого материала будут отправлены вашему другу по электронной почте. |
|
© 2008-2024, myJulia.ru, проект группы «МедиаФорт»
Перепечатка материалов разрешена только с непосредственной ссылкой на http://www.myJulia.ru/
Руководитель проекта: Джанетта Каменецкая aka Skarlet — info@myjulia.ru Директор по спецпроектам: Марина Тумовская По общим и административным вопросам обращайтесь ivlim@ivlim.ru Вопросы создания и продвижения сайтов — design@ivlim.ru Реклама на сайте - info@mediafort.ru |
|
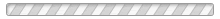
Комментарии:
Оставить свой комментарий