



Рубрики статей: |
АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ
Тамара Черемнова
Зовущие облака (автобиографические эпизоды) Оглавление Вместо предисловия 2 Часть 1. Дома 2 Хочу черемухи! 2 Поросенок Борька 5 Доминошки 7 Самостоятельная прогулка 9 Дедушкины абрикосы 9 Стрекозы и вкус дождя 9 Познание мира 9 Хрен с медом 9 Панамка 9 Папа Саня 9 Последние домашние вечера 9 Часть 2. В детдоме 9 Куда меня привезли?! 9 Невкусный суп 9 Соседки, воспитательницы, нянечки 9 Раздача подарков и мамин визит 9 Желаю умереть… 9 Что случилось с моей семьей 9 Детдомовское новогодие 9 Я встретила весну и узнала слово «гроб» 9 Летом на крыльце 9 Родичи навещают меня 9 Детдомовская школа 9 Я научилась садиться 9 Зависть к тополю и муравьям 9 «В умственном развитии отстает…» 9 Материнское отвращение 9 Кому пожаловаться? Солнышку! 9 Телевизор 9 Сестренка Ольга 9 Пожар 9 Смена начальства 9 Мои первые книги 9 Зовущие облака 9 Эпидемия дизентерии 9 Новый корпус 9 Загадка местопребывания 9 Я взрослею 9 Любаша 9 Последние годы в детдоме 9 Вместо послесловия 9 Если свет — это тьма, то что есть тьма? Вместо предисловия До сих пор не знаю, что помогло мне выбраться из безнадежности. Меня называют сильным целеустремленным человеком. Отличная характеристика, но одной целеустремленности мне бы не хватило, уверяю вас. Сработало другое — я родилась с ослиным упрямством. И в полной мере продемонстрировала его еще в раннем детстве. Дома у меня были самодельные ходунки и высокий порожек — такой, что и здоровые дети спотыкались. Так вот я самостоятельно через этот порожек перелезала. Один раз так мордашкой хлопнулась, что в кровь расшибла губы. И после этого все равно упорно лезла через порог. Родичи сначала караулили меня, останавливали, предупреждали, потом безнадежно махнули рукой. Но не только врожденное упрямство вело меня по жизни. Я сызмальства знала, что пришла в этот мир с определенной миссией. Понимаю: данное заявление звучит высокопарно и странновато, если принять во внимание мои весьма ограниченные физические возможности — парализованные ноги, слабые руки, больная спина, передвигаюсь на электроколяске. Это все последствия ДЦП. Эти три буквы ДЦП, гвоздями вколоченные в мою жизнь, расшифровываются как детский церебральный паралич. Но именно желание полностью выполнить свою миссию вдохновляло меня на преодоление всех жизненных порогов и препятствий. Часть 1. Дома Хочу черемухи! Вьется дорога между двумя рядами деревянных домиков на окраине города Сталинска (бывшего и будущего Новокузнецка), и один из этих домов — тот, в котором я родилась. Наш дом не был новостройкой — дед с бабой, поженившись, купили его уже готовым. Добротный удобный дом с двором, садом и огородом. Там и прошло мое детство. И что мне уготовила жизнь в дальнейшем, я еще не знала, была как все дети: весела, резва, шаловлива, временами капризна. Различие с другими детьми состояло лишь в том, что доступ в окружающий мир был для меня ограничен. Что испытывает такой ребенок, находясь в тисках физической ограниченности, замечает ли он эти ограничения, удобно ли ему жить в этом мире и вообще, что такое инвалид в нашем обществе, — никто до конца не вникал в эти вопросы. Инвалидов в реальности продолжают не видеть — ни общество, ни государство, — хотя уже много об этом говорят и пишут. Пока что все выливается в рассуждения и мечтания, а также в горестные сетования по поводу глубинности и бездонности темы «инвалид и социум». Попробую восстановить в памяти некоторые подробности тех давних лет — наверное, самых счастливых для меня, потому что потом моя жизнь превратится в многолетнюю войну за место под солнцем, за право быть ЧЕЛОВЕКОМ со всеми последствиями, вытекающими из этого слова по смысловому определению и божьему замыслу. Борьба за свое законное право, заниженное людским равнодушием. *** Итак, вьется пыльная незаасфальтированная дорога, вдоль которой выстроились деревянные домики. У некоторых из них еще не потемнели бревна, указывая на то, что их поставили совсем недавно. У одного из домов через невысокий штакетник клонится на обочину дороги тронутая осенней позолотой зелень небольшого сада, по вечерам к калитке этого двора спешат кавалеры — попросить у молодой хозяйки букетик махровых георгин для своих невест. Я стояла и смотрела на сломанные мною цветы. И понимала, что меня сейчас снова отругают, если увидят, а меж тем мне хотелось наклониться и поднять сломанные георгины, но ходунки не позволяли этого сделать. Я с ненавистью посмотрела на узкую калитку сада, через которую победно пролезла три минуты назад. Можно было незаметно выбраться и, хотя все домочадцы знали, что цветы ломаю только я, все же можно было как-то отвертеться, но сейчас… — Томка, кто помог тебе сюда забраться? — сокрушенно качает головой отец. — Вот посмотри, ты опять сломала цветки, а мама так их выхаживает. И как пролезла-то? — Ты же сам мне показал, как сюда забираться, — надувшись и готовая вот-вот расплакаться, бубню в ответ. — Это когда же я тебе показывал, как сюда можно забраться? — Отец от удивления даже перестает сердиться. — А когда мамка клубнику-викторию пошла полоть, — поясняю и вижу изумление на отцовском лице. Меж тем я сказала истинную правду. В тот день отец проявлял фотографии, а я крутилась возле него и мешалась: то стол качну, то руку толкну. Когда по моей вине смазались две или три фотографии, у него лопнуло терпение, и он утащил меня к матери в сад, и я запомнила, как он втаскивал ходунки боком в узкую калитку. Именно это я и проделала самостоятельно: приподняв один бок ходунков, постепенно втискивала их в ту злосчастную калитку. В какое-то мгновение застряла, но, раскачав ходунки, смогла выбраться. Дело в том, что калитку в сад специально сделали узкой, чтобы я не смогла забраться без посторонней помощи, — наивная попытка защитить георгины от моего нашествия. Отец возмущенно схватил сзади ходунки и вытащил их вместе со мной, орущей на весь двор. — Хочу черемухи! — заявляю я. — Я тебе ее сейчас сам нарву, только не ори, — тихо умоляет молодой папаша, неловко чувствуя себя под любопытными взглядами прохожих. — Я сама хочу ее нарвать, — дохожу я до поросячьего визга, но, чувствуя, что ходунки продолжают вместе со мной неумолимо плыть в отцовских руках к сеням дома, сдаюсь и уже спокойно прошу: — Пап, я больше не буду, отпусти. — После чего ходунки наконец-то ставят на землю. — Том, скажи, зачем я, по-твоему, сделал калитку в сад узкой? — Чтоб мы с Сережкой не лазили, — бодро отвечаю я, упомянув своего двоюродного брата на полтора года младше меня. — Ну, если Сергей один войдет в сад, он не сломает цветы, а вот ты своими ходунками все попортишь. Поняла? — спрашивает отец. Я покорно киваю головой. Наступает неловкое молчание. Выждав паузу, отец ставит условие: — В общем, так: гуляй во дворе, и чтобы ни в саду, ни в огороде я тебя больше не видел. Увижу, что ты опять куда-то залезла, — посажу в коляску. В ответ я фыркаю, но протеста не выражаю, так как сидеть в коляске радости мало: я же в ней не могу передвигаться самостоятельно. *** Все в округе уже отлично знали, что в этом доме растет больной ребенок. Вот только ко мне, резвой и активной, определение «больной ребенок» ну никак не подходило. За исключением того, что я была ограничена в самостоятельных движениях: не умела вставать и ходить, не могла сама садиться, и руки не полностью были мне подвластны. Однако благодаря ходункам, которыми я научилась управлять лучше, нежели своим телом, я легко осваивала пространство, не замечая своих, на посторонний взгляд, неуклюжих громоздких подпорок — ходунки я ощущала как нечто неотделимое от меня. С едой тоже были проблемы: я могла самостоятельно кушать только твердую пищу, поднеся кусочек ко рту, но не могла есть ложкой и пить из чашки или из стакана — расплескивала. Сегодня, будучи уже в зрелом возрасте, я ретроспективно вижу все в иных красках и тональностях, в том числе и то, как непросто было моим родителям иметь больного ребенка в то дикое по отношению к инвалидам время. Хотя и по сей день ребенок-инвалид часто воспринимается российским обществом как какое-то неправильное существо, неверно запрограммированное еще на уровне зачатия. А так ли это? Человек еще не переиграл матушку-природу умом, и как бы не пришлось горько пожалеть о своем стремлении быть умнее природы. Ведь если рождается ребенок-инвалид, это означает, что природа хочет что-то подсказать человечеству. Надо только правильно ее, природу, понять. Ведь среди зверей инвалидов нет. Но не только потому, что они, беспомощные, не выжили бы среди здоровых, которые съели бы их или бросили в одиночестве, обрекая на смерть. Звериная матка до последнего защищает свой выводок, она бы защитила и больного детеныша, если бы ей представилась такая возможность. Так что отбраковка неполноценных и ослабленных в животном мире не абсолютна и нельзя ее переносить калькой на человечество. А вдогонку хочется крикнуть: человек, не будь категоричен в своих выводах! *** Вернемся в далекое советское время — вторую половину 1950-х. Несмотря на медицинскую дикость и безразличие по отношению к инвалидам, это самый светлый отрезок в моей жизни, шесть счастливых лет, с моего рождения в декабре 1955 года и до отправки в специализированный детдом в октябре 1962-го с безысходным диагнозом «поражение ЦНС». Очень расплывчатый диагноз, не уточняющий, что именно поражено в центральной нервной системе. Однако его достаточно, чтобы навеки изолировать от большого мира и упечь в специализированное закрытое учреждение. А дома было очень даже неплохое начало жизни маленького человечка, обреченного безжалостной жизнью на незаслуженные муки. Чем я их заслужила? За какую провинность мне был уготован этот крест? Только спустя полвека я смогла ответить на этот непростой вопрос. Ничто не дается просто так: в каждом отдельном жизненном случае есть свое определение, свое предназначение и своя логика. *** Итак, отец вернулся в дом, оставив меня во дворе, и я облегчено вздохнула: снова мне сошло с рук, и меня не отругали. Я развернула ходунки, еще не зная, что бы такое предпринять. Во дворе было пусто, только за воротами весело визжали девчонки: они играли на дороге, на обочине которой еще не высохли лужи после дождя. Я с завистью смотрела на них: мне тоже хотелось так же измазать ноги грязью по самые коленки или пробежаться по мокрой тропе, громко хлюпая подошвами сандалий. В такие минуты я ощущала какую-то пустоту внутри себя — наверное, мое подсознание уже сигналило: твое физическое ограничение непомерно, и в такие игры тебе никогда не сыграть. Но то, что мне никогда не придется вот так же, как они, весело пробежаться ногами по тропе и пошлепать пятками по грязи, пока что до меня не доходило. Я даже не задавалась вопросом: почему это я без ходунков не могу ходить, как все? Мысли в голове как тараканы — все равно заведутся, рано или поздно. Но это произойдет потом, а пока — наш двор, где я стою и выглядываю сквозь штакетник калитки. Позавидовав девчонкам и понаблюдав за их безмятежной возней еще пару минут, я развернула ходунки и уныло поплелась к дверям дома. Но возле лавочки остановилась, увидев лежащий на ней прут. Потянулась за ним, еще не очень соображая, зачем он мне нужен и нужен ли вообще. А в это время у себя в закутке визгнул поросенок Борька. Я подождала, не выйдет ли бабушка на этот визг, и, взяв прут в зубы, направилась к Борьке, на ходу обдумывая свои дальнейшие действия. Поросенок Борька Поросенок Борька услышал, что к его дверце подошли, радостно хрюкнул и высунул пятачок в прорезь дверцы. Но поняв, что это не те, кто его кормит, имея в виду бабу или мою мать, он спрятался обратно. В мои планы такой оборот дела, конечно же, не входил, мне захотелось, чтоб Борька снова высунулся, это же так забавно, и я стала дразнить его прутом. Сначала он на мой прут не обращал внимания, но я так долго и настойчиво шуровала им, что поросенок не выдержал и стал хватать прут зубами. Я так была увлечена этим занятием, что даже не слышала, как ко мне присоединился Серега, мой двоюродный брат и товарищ по играм и шалостям. — Том, а Том… Я тоже хочу с Борькой поиграть, — заканючил он. — Найди себе прут и играй, — авторитетно посоветовала я ему. Серега нашел подходящий прут и присоединился ко мне. Мы до того раззадорили поросенка, что тот как дрессированный вставал на задние ноги и доверчиво высовывал нам свой пятачок. Играл с нами. Так, по крайней мере, нам это казалось. Но, видимо, у поросенка тоже есть предел терпения и он, изловчившись, выхватил у Сереги прут и утащил к себе. Серега обиженно засопел. И тогда я предложила: — Сережка, давай накормим Борьку, вот баба похвалит нас. — А чем мы его накормим? — уставился на меня Серега. — Я сегодня видела, когда баба Борьке готовила пойло, она крошила туда зеленые капустные листья. Листья еще остались — лежат в сенях. Серега сбегал в сени и принес два огромных капустных листа. Мы их спустили поросенку через прорезь в двери и стояли, слушая, как тот сладко чавкает за дверцей. Сожрав листья, Борька снова высунул свой пятачок — в надежде получить добавку. Серега принес еще два капустных листа, а потом еще и еще, и так, пока во двор не вышла баба. Мы даже не слышали, как она вышла. И только когда она заплакала, мы оглянулись, не понимая, почему баба плачет. — Ну что за детки? Одно наказание! Что же вы наделали, окаянные? Креста на вас, что ли, нет? — причитала баба. — Ты чего, Клава? — спросил дед, выходя из сеней. — Да вот окаянные детки Борьку, наверно, убили, — заголосила баба. — Ты чего плетешь? Как убили? — не понял дед. — Да они ему все листья с капусты скормили, что лежали в сенях. Дед подошел, открыл дверцу. Борька лежал возле порога, дед тронул его носком ботинка, Борька лениво открыл глаза, вожделенно посмотрел на деда (может, тоже принесет капустных листьев?) и лениво хрюкнул. — Да нет, ничего страшного, просто малость объелся, — сделал заключение дед и закрыл дверцу. *** Баба не была скупой женщиной, просто поросенок в те годы был дороже золота для простых людей, которые бежали из разваливающихся пустеющих деревень вот на такие стройки века, каковых много было в Кузбассе, и где их с радостью брали как дешевую рабочую силу, особенно деревенскую молодежь. Молодежь создавала семьи, и застраивались избами окраины будущего индустриального города, вырастали целые улицы из таких деревенских изб, как наша, и сложился стихийный полугородской-полудеревенский «город-сад» вместо спланированного в 1930-е годы. И в этом «городе-саде» познакомились и мои дед с бабой, и мои отец с матерью, родом происходившие из деревень Новосибирской области. И с горькой иронией вспоминаю писателей, которые в возвышенных тонах взахлеб писали книги о таких стройках, но умалчивали о жестоких деталях — иначе цензура не пропустит. Например, о том, что женщин нагружали кирпичами, как выносливых верблюдиц, и использовали специальное приспособление для носки: деревянная доска с лямками, которая одевалась на спину, как рюкзак, а на нее накладывали кирпичи от пояса до самого затылка, и это была норма, и женщина несла эту тяжесть до места назначения. Похоже на киношных западных эксплуататоров-злодеев, созданных на Мосфильме. А в советской реальной жизни все это делалось еще жестче и изощреннее, причем преподносилось как геройство. И где же сейчас эти писатели, разжиревшие на своих ныне полузабытых книгах? Не грызет ли их совесть за то, что не замечали у себя под ногами втаптываемые в землю человеческие судьбы? Самое возмутительное, что женщины нередко работали в таком режиме и с такой нагрузкой во время беременности. На ранних стадиях, когда еще не знали про свою беременность, и на более поздних, когда знали, но не хотели переходить на легкую, но менее оплачиваемую работу, и даже скрывали свою беременность, чтобы не упускать хорошего заработка. Думаю, что такое поведение во время беременности является одной из причин ДЦП. Например, это может вызвать внутриутробную асфиксию развивающегося плода: на секунду перекрыли доступ кислорода к головному мозгу — и этого достаточно для ДЦП — даже если дальше все идет нормально и беременность протекает без осложнений, ребенок рождается с ДЦП. *** Но вернемся к поросенку Борьке. Дед закрыл Борьку в закутке, положил на наши головы свои ладони и усмехнулся: на наших детских лицах была, наверное, недетская растерянность и озабоченность. Я никогда не видела, чтобы баба так плакала, мне захотелось подойти к ней и пожалеть ее. Но я не успела этого сделать — появился отец, молча вытащил меня из ходунков и посадил в коляску. На сегодня мои дневные приключения заканчивались. Потом начнутся ночные, но я о них пока не думала, сидела в коляске, разобиженная на всех, и перемалывала в головенке свои обиды. — Ну вот почему, когда Серегу наказывают, то всегда «на маленько» (я имела в виду, что ненадолго), а если меня наказывают, то до самой ночи, пока в кровать не положат? — возмущалась я, исподлобья поглядывая на спины отца и деда. Доминошки Здоровый ребенок во дворе, даже в отсутствие игрушек, сразу же найдет себе занятие и развлечение: он может присесть на корточки и копаться в песке, сооружать что-нибудь из щепочек и тряпочек или играть в дочки-матери. Мне это, увы, было недоступно: в ходунках я могла только стоять или передвигаться, но никак не нагибаться. Мне иногда выносили на улицу игрушки, чтобы я могла поиграть, но мои нескоординированные движения доставляли мне и моим родственникам массу хлопот. Помню, однажды мне подарили детское домино, и мать, снарядив меня на улицу, разрешила взять его с собой. На улице, подойдя к лавочке, я вытащила коробку из кармана и, положив, открыла. Но едва я начала переворачивать коробку, чтобы высыпать доминошки на лавочную доску, мою руку дернуло, и все костяшки полетели врассыпную. Я тут же завопила на весь двор: — Мамка, я домино рассыпала! Мать вышла подбирать домино, и когда доминошки были собраны, оказалось что не хватает трех, а после второго падения и собирания в коробке не хватало уже больше половины. Так за какие-то десять-пятнадцать минут было растеряно красивое домино. — Томка, больше не ори! Мне надо в доме убираться, играй во что-нибудь сама, — приказала утомившаяся после поисков доминошек мать и ушла в дом. Игра в домино так и не состоялась. Увы, тогда не было игрушек «по моим рукам», а кукол я не очень любила, я только и могла, что таскать их за одну ногу. Больше всего мне нравилась играть с двоюродным братцем Серегой. Он переворачивал два стула перед моей коляской — это была кабина автобуса. Я брала хозяйственную сумку, одевала ее на шею и начинала голосить, изображая кондуктора. Сам Серега был, естественно, шофером, но иногда превращался в пассажира, которому я вручала билет. После нашей игры бабе приходилось убирать по всем комнатам разорванную на билетики газету. Однажды мы с Серегой по неведению разорвали свежую, еще не прочитанную газету, которую дед целый день искал, и если бы Серега не проговорился своей матери, никто бы не догадался, что это мы ее порвали. *** Странно в те годы вели себя врачи. Милостиво соизволили оставлять жить рождавшихся детей-инвалидов, но ничегошеньки для них не делали и ничего не планировали делать в будущем. Но ведь ребенок-инвалид — это не домашняя зверюшка, а человек. И ни в коем случае нельзя легкомысленно и безответственно подходить к этой проблеме, считая, что если ребенок накормлен, помыт и одет, то миссия по уходу и воспитанию выполнена. Врачи уверяли моих родителей, что мой паралич после двенадцати лет сам собой пройдет, и родители поверили в это. Эта волшебная фраза «паралич пройдет сам собой после двенадцати лет», повторяемая на все лады, в конце концов, успокоила их, неоправданно усыпив бдительность. И вместо того чтобы как-то противостоять моему заболеванию, чтобы не дать ему прогрессировать дальше, мои родители ровным счетом ничего не делали. И болезнь брала свое: после пяти лет у меня началось обострение, координация движений резко ухудшилась. И если до того родители были уверены, что я чуть-чуть подрасту и начну сама кушать, самостоятельно пользоваться ложкой, а может, и вилкой, то после пяти лет эта уверенность уже испарилась. А повторное обращение к врачам и обследование закончилось тем, что мне припечатали мрачный диагноз «необратимое поражение ЦНС» c пояснением для родителей: «она никогда не поправится». А первоначально предсказанные пресловутые 12 лет выплыли в другом — 12 лет я провела в специализированном детдоме, куда меня отдали родители ввиду моей бесперспективности. А им надо было всего лишь переступить через свой ложный стыд, что ребенок у них немного не такой, как все дети, что нуждается в несколько большем уходе и медицинском внимании, надо было принять это как неизбежность и настаивать на своевременной медицинской помощи. Да и нужны были не столько медицинские услуги, сколько бытовая сообразительность. Ну что стоило им, моим родичам, постелить на пол дедов тулуп, положить меня на тот тулуп и оставить одну, и я бы все равно рано или поздно начала бы садиться сама, а потом, может быть, попыталась бы встать. Ведь у меня же был интерес к движению! Если б они знали тогда, на какую страшную зависимость от окружающих они меня обрекли своим бездействием, как мне моя беспомощность отравляла и отравляет всю жизнь. Парализованные люди понимают, что значит жить в таком состоянии, когда каждую секунду сознаешь, что твое тело ничегошеньки не может сделать самостоятельно, а твой дух игнорирует это и требует для себя жизни. Впрочем, укладка на тулуп и оставление в одиночестве могут кому-то показаться безжалостным приемом: беспомощный ребенок один валяется на полу. Но когда родители, будучи не в силах справляться со мной, сдали меня в детский дом для инвалидов, разве много ко мне было жалости? Кстати, именно там я, брошенная без присмотра, не рассчитывая на помощь, и научилась самостоятельно садиться. Моя мать или баба могли вечером делать мне лечебный массаж, если бы их кто-то этому научил, невелика премудрость, сегодня эти курсы массажа и инструктажа для родителей детей-инвалидов проводятся повсеместно. Но все ждали чуда. Неоправданное ожидание! А я росла, развивалась, по натуре своей была живым (иногда даже чересчур) непосредственным ребенком, фантазии хоть отбавляй, и еще не чувствовала, что чем-то отличаюсь от других детей. И это все можно было использовать для коррекции и адаптации. Но мои родичи и слов таких не слышали… Самостоятельная прогулка Мне строго-настрого запретили выходить в ходунках за ворота: там была дорога, по которой целый день туда-сюда сновали грузовые машины. Однако этот запрет перестал для меня существовать, как только я научилась сама откидывать на воротах крючок. Было уже пять часов вечера, дед вернулся с работы в тот день почему-то пораньше. Я его увидела, когда он подходил к воротам. — Ой, дедка пришел! — радостно завопила я на весь двор. Дед открыл ворота, зашел во двор и поймал меня вместе с ходунками, летящей прямо на него со всех ног. — Эх, Томка… И когда только ты у нас без ходунков научишься бегать? — горько вздохнул он. — Дедка, пойдем, погуляем по дороге, — запищала я просительно. — Подожди, немного отдохну, и мы с тобой погуляем, — пообещал дед. Он ушел в дом, а я осталась возле ворот. За оградой собралась компания подростков, пацаны натягивали вдоль дороги какую-то веревку, собираясь что-то соорудить. Я долго за ними наблюдала, пока они крутились возле наших ворот, потом они отошли подальше, и мне не стало их видно. Я покрутила головой туда-сюда, глянула вверх и зацепилась взглядом за крючок. Раньше я не могла достать до крючка, хотя мне до ужаса этого хотелось: ведь я видела, что там за воротами бегает малышня, даже младше меня. Оглянувшись, чтобы убедиться, что за мной не наблюдает в окно баба, я потянулась к крючку. И не поверила своим глазам: мои пальцы доставали до крючка! Я ощутила радость и гордость. Во-первых, оказывается, я здорово подросла, а во-вторых, возникла идея… Еще несколько дней назад мне в голову втемяшилась одна интересная мысль, не дававшая покоя даже по ночам. Однажды, когда я, как обычно, глазела на прохожих, мне вдруг почудилось, что если я в ходунках пробегусь по дороге, то обязательно начну бегать без ходунков, исключительно на своих ногах. Откинув крючок, я не спеша открыла ворота и выпорхнула (насколько этот глагол применим к моему передвижению в ходунках) на дорогу. Но у обочины дороги была колея — и я намертво засела в ней. Меня сразу же окружили гулявшие ребята. Они с интересом рассматривали меня, а я их. Наверное, я тогда впервые почувствовала себя жутко неуклюжей в ходунках. Но ребята смотрели на меня доброжелательно, кое-кто из них даже подбадривал, потому что я им помогала дразнить нашего общего неприятеля — соседского рыжего мальчугана Валерку. Я громче всех орала этому бедняге вслед: Валера-холера! А он, завидев мою мать, всегда жаловался ей: — Теть Кать, а чего ваша малышня дразнится?.. Если я была рядом, мать меня отчитывала: — Нёмка! — так она меня ласкательно называла. — Зачем ты дразнишь Валеру? Нехорошо мальчиков дразнить. Он же ничего плохого тебе не сделал, — увещевала меня мать. Хоть и интересно было очутиться за воротами, но я все же с опаской оглядывалась по сторонам: не едет ли машина. Я намеревалась осуществить задуманное мной — пробежаться по дороге — но этому не суждено было сбыться. Я подергала ходунки, но они намертво застряли в колее. А тут еще у подростков, мастеривших неподалеку, что-то хлопнуло, и над моей головой пролетела обгорелая веревка. Я с перепугу не успела еще ничего сообразить, а дедка уже затаскивал мои ходунки за ограду. — Томка, кто тебе помог ворота открыть? — строго спросил дед. — Ой, дедка! Я теперь сама умею их открывать, — похвасталась я. — А кто тебе разрешил их открыть? — еще строже спросил дед. Я молчала. — Чего молчишь? — допытывался дед. — Дедка, я больше не буду, — заныла я. — Ну, хорошо, так и быть, прощаю тебя, — сказал дед, прижав меня к себе. — Дедка, давай расскажем всем, что я выросла, — предложила я. — Обязательно всем расскажу, что моя внучка выросла, — согласился дед и, вытащив меня из ходунков, понес в дом. Дедушкины абрикосы Уж не знаю, за какие такие заслуги дед так любил меня. Помню, однажды осенью родители собирали выкопанную картошку и, прежде чем ссыпать ее в подполье, решили просушить на чердаке. Когда уже всю картошку засыпали, дед взял Серегу с собой на чердак — показать как с высоты все видно. Серега сам забирался по лестнице, дед его только страховал, чтобы он не упал, когда они спустились, я завопила на весь двор. — Папка, я тоже хочу на чердак! — Уже увидела! — возмутилась Нянька (так я называла Серегину мать). — Никуда тебя не потащу! Ты что: не видишь, что я устал? — заругался отец. — Нёмка! Как тебе не стыдно? У Сережи папы нет, вот деда и хочет научить его по лестнице ходить, — попыталась пристыдить меня мать. Дед подошел к моей коляске, взял меня на плечо и стал забираться по лестнице. Я почувствовала, как у него дрожит рука от напряжения. Все молча смотрели на это чудачество. А мы с дедом уселись на чердаке, он закурил, а я, вытянув шею, старалась разглядеть строившийся город — по ту сторону речки Горбунихи, протекавшей мимо нашего огорода, далеко-далеко, за водонапорной башней. Эх, если бы я тогда знала, что совсем скоро настанет время, когда рядом не будет ни матери с отцом, ни деда с бабой... Если б мне дано было тогда почувствовать это, я бы прижалась к деду, чтобы хотя бы получше запомнить этого родного, немного замкнутого человека... *** Вспоминалось еще одно чудачество, доказывающее беззаветную любовь деда ко мне. Однажды он ездил отдыхать и с курорта привез чемоданчик, доверху наполненный абрикосами. Оделив всех поштучно, подошел к моей коляске, распахнул передо мной чемоданчик и ласково пригласил: — Ешь, внучка! Это все тебе. — Все онемели от удивления. — Миш! Она же не съест столько, только передавит и выпачкается, — завозмущалась баба. — Цыц! — ругнулся он. — Пусть поест волю. А мы за ней подъедим. А я — довольная! Чуть ли ни всем своим тельцем залезла в чемодан и, как и предвидела баба, измазюкалась в абрикосах от макушки до туфелек. Потом меня выдернули из чемодана и унесли купать. И помятые абрикосы подъедали уже без меня. Стрекозы и вкус дождя Нянькой я звала Серегину мать, в честь которой и была названа Тамарой. Может, эта плохая примета, и она тоже сыграла какую-то свою важную роль в моей и без того горькой судьбе… Что бы стало со мной, если бы отец не назвал меня Тамарой? Ведь Няньку постигло несчастье (она, когда училась в 8 классе, попала под трамвай, и ей отрезало полноги), и, наверное, с этим именем и в моей судьбе добавилось горечи. Ведь не зря говорят, что новорожденному ребенку нельзя давать имя болеющего или трагически погибшего родственника, чтоб не накликать такую же беду и на судьбу младенца. И как бы ни распоряжались нашими судьбами там, наверху, как бы ни мудрили, вкладывая особый смысл в каждое человеческое существо, но то, что в моей судьбе перебор горечи — это очевидный факт. Видимо, и Бог допускает ошибки. А может, Всевышний специально отпустил щедрую порцию горечи безвинному ребенку, чтобы посмотреть, как тот оправдает бесценный дар под названием Жизнь, приправленный горечью… *** Меня, как и всех детей, манил к себе этот до безумия красочный волшебный мир, и я, как и другие дети, торопилась поскорее познать его. Как-то после проливного дождя Нянька поймала большую зеленую стрекозу и принесла ее мне: — Томка, посмотри, какую стрекозу я поймала, — похвасталась Нянька, держа в ладонях переливающуюся красавицу с растопыренными прозрачными крыльями. — Ой, где ты взяла такую? — зачарованно спросила я. — На улице. После дождя их много летает, — ответила Нянька. Если б она знала, чем потом обернутся ее слова! — Нянь, дай мне стрекозку в руки, — попросила я. — Нет, ты ее помнешь, и она умрет. Я лучше ее отпущу, — И она ушла со стрекозой в руках. А я после этого случая, просыпаясь, каждое утро прислушивалась: не идет ли за окном дождь? Долгожданный дождь пошел через неделю. Был выходной день. Нас с Серегой искупали, женщины успели перестирать белье и после пяти вечера планировали пойти помыться к соседям в баню. Но после обеда ливанул дождь с грозой, все сидели дома. Я подтащила ходунки к порогу, намереваясь открыть дверь. — Нёмка, ты куда это собралась? — удивленно спросила мать. — Разве не видишь, что там дождь? — А ты разве не знаешь, что там сейчас красивые стрекозы летают? — с ноткой обиды в голосе спросила я. — Какие еще стрекозы? Ты посмотри, какой ливень хлещет! — возмутилась баба. — Томка, подожди, вот дождь кончится, и я тебе обязательно поймаю стрекозу, — пообещала Нянька, выглядывая из своей комнаты. — Я сама хочу посмотреть, как они летают. Вы все уже видели, только одна я не видела, — заупрямилась я. — Ну хорошо, и ты сегодня посмотришь. Только подожди, вот дождь закончится, на улице немного подсохнет, и ты пойдешь смотреть своих стрекоз, — миролюбиво согласилась баба. — Ага, они тогда улетят — и все! — продолжала упрямиться я. — Будешь упрямиться — вообще никуда не пойдешь? — сердито осадил отец, выходя на кухню. — А вот и пойду, и прям сейчас! — категорично заявила я. — Это кто тебя научил пререкаться со старшими? — прикрикнул на меня отец. — Вот за то, что упрямишься, никуда не пойдешь. — Отец подошел к двери и задвинул засов, до которого я не могла дотянуться. Я с минуту молча смотрела на массивный засов, а в душе боролись два чувства: обида, что никогда не увижу красивых стрекоз и не полюбуюсь, как они летают после дождя, и логическое убеждение, что на улице идет дождь и там сейчас грязно. Победили красивые стрекозы. Я уперлась лбом в дверь и заревела. Вы думаете, наверное, что это был просто детский каприз избалованного ребенка? Увы, не только! Меня, как и всякого другого ребенка, манил этот красочный живой мир и требовал, чтобы я его познавала. Я уже дорыдалась до хрипоты, когда дедка не выдержал. Он встал, молча подошел к двери, открыл засов и, взяв мои ходунки, вытащил меня на улицу. Едва он отпустил меня, я почувствовала, как ходунки начали проваливаться вместе со мной в вязкую жижу. Ноги сразу же промокли. Постояв немного так, я попробовала сдвинуть ходунки с места, но мне не удалось их даже пошевелить, они намертво засели в вязкой жиже. Выглянуло солнце, с крыши падали большие дождевые капли, а вот сказочно красивых стрекоз нигде не было видно. Я подняла голову и виновато посмотрела на дедку, он все понимающими глазами смотрел на меня, грустно улыбаясь. И мы оба отлично представляли, что ждет нас дома. Дед молча занес меня в дом... И вот тут память услужливо прячет не очень приятные воспоминания, стирая подробности того дня. Я только помню, как баба молча снимала с меня мокрые ботинки, и было много недоброго в этом движении… А вечером у меня поднялась температура, в груди захрипело, пришлось ставить горчичники. Перед глазами живо всплывает воспоминание, как отец таскает меня, орущую в жгучих горчичниках, по комнате на руках, а я уже, честно сказать, не столько от боли плакала, а сколько оттого, что «да, я виновата и признаюсь в этом» и чтобы наконец-то меня простили. Надо отдать должное моим родителям — они однажды полностью удовлетворили мое «дождевое» любопытство. Помню себя, сидящую под зонтом в саду, под теплым грибным дождем, и солнце, пробивающееся сквозь тучу. Незабываемое впечатление! Мне его потом на всю жизнь хватило. Вы не представляете, что значит для больного ребенка почувствовать ощущение дождя. Познание мира Обычно по утрам я просыпалась оттого, что над моей кроватью открывалась окно, и в комнату врывался летний солнечный день. Или день с дождливым шорохом. А осенью — с чуть слышным прикасанием осенних падающих листьев. А зимой, когда окно лишь чуточку приоткрывалось, — морозец холодил щеки, а на стекле светились волшебные ледяные узоры. Но дольше всего в памяти задержалось воспоминание, когда мама по утрам открывала ставни снаружи, и в солнечном заоконном саду я видела ее. Это светлое воспоминание ничем не сотрешь, даже предательство перед ним бессильно. Мамино предательство… Сколько бы потом я ни видела от нее самых низких унижений — да таких, что порой охватывал недоуменный испуг: и эта женщина была в прошлом моей любящей мамой, а потом стала такой безобразной, преисполненной тупой жестокости, — все равно в памяти не стираются светлые воспоминания. …Иногда в детдоме ночью, когда к горлу подступала невыносимая горечь, и хотелось выть волчонком, а там нельзя было даже заплакать, потому что это считалось большой роскошью — заплакать просто так. «Никто ее не обижал, а она разревелась! Мало ли, что тяжело, здесь всем тяжело, но никто не плачет!» — так говорили со злостью некоторые няни, и было что-то чудовищное в этом, а может, они просто сами от этого уставали, ведь обычные же люди, которым до смерти надоедало смотреть на наши страдания. Так вот, в такие ночи я выдергивала из памяти ту прошлую маму — настоящую! не предавшую! — и невольно начинала сравнивать и никак не могла понять: почему моя мама стала такой? как меняет человека время? Обстоятельства? *** И снова возвращаюсь в свое далекое детское прошлое, где нет еще никакой беды, где все солнечно. Только не надо думать, что меня так уж сильно баловали, бывало, что и ругали как всякого другого ребенка. Эпизод за эпизодом — они всплывают в моей памяти и ложатся на листы этой книги. Знаю заранее, что книга будет полна горечи и не каждый сможет ее прочесть, и все же пишу дальше. Вот еще один эпизод, связанный с моим неуёмным характером. Мне тогда было лет пять. Нас уже росло двое у родителей: в январе 1960-го родилась моя сестра Ольга, здоровый спокойный ребёнок, не доставляющий особых хлопот. Был нежаркий полдень августа. Мать прогуливала Ольгу во дворе, там же была и я. Сестра заснула у матери на руках, и она понесла ее в дом, чтобы уложить в кроватку, предварительно наказав мне, чтобы я никуда не лезла. И, напоследок строго глянув, ушла, унося спящую сестру. Я послонялась по двору на своих ходунках в одиночестве минут десять и решила тоже зайти в дом. Я ведь сама перелезала через порог, и ничего со мной не случалось. И в этот раз, не предчувствуя ничего дурного, я забралась на земляной скат, покрытый ровными досками и заменяющий крыльцо, благополучно миновала сени и открыла дверь в избу. Я поставила передние колеса ходунков на порог, этот порог со стороны сеней был очень высокий, но я его всегда одолевала. Так вот, поставив передние колеса ходунков на порог, я схватилась за щеколду, висевшую сбоку на косяке. И, видимо, в второпях не заметила, что сделала ошибку, не поставив ноги на порог. С силой дерганув за щеколду, чтобы ходунки перескочили порог, я вместо переброса через порог беспомощно повисла на перекладине ходунков. Колеса съехали с порога, и я хлопнулась со всего маха прямо о него, ощутив мордашкой всю его твердость. Естественно, сначала никакой боли я не ощутила. И первой мыслью было: если сейчас кто-нибудь зайдет и увидит, что я опрокинула ходунки, меня за это отругают. Но, приподняв голову, я увидела на пороге лужу крови, сообразила, что это моя собственная кровь, и тут уже испустила громкий рев. А вот дальнейшее уже не помню, то ли память опять услужливо прячет неприятные моменты, то ли я потеряла сознание. Помню, что было уже позже: я лежу у бабы с дедом на койке, а на кухне ругаются мои домочадцы. Честно признаюсь: меня частенько поругивали, особенно отец — и по делу, и для острастки. Почему — не знаю, трудно сейчас сказать. Но то, что я уже тогда обладала упрямым характером — это очевидно. *** Никто в доме даже не предполагал, в какие дали и сколько отматывая назад лет (наверное, тринадцать-четырнадцать, когда меня и в помине не было), я отправляюсь в своих снах. В этих совершенно не детских снах я постоянно возвращалась в чье-то (уж точно не мое!) страшное прошлое — в военное время. Наверное, мне мало кто поверит, решат, что я это сочиняю — для того, чтобы сделать свою книгу загадочнее. Но уверяю вас, никакого сочинительства — все, что я здесь пишу, было на самом деле. Мне даже трудно сказать, когда этот сон начал мне сниться. Кажется, он был со мной с самого рождения, просто, когда я уже подросла, то стала его помнить. В этом сне взрослого человека я всегда убегала от танка. Хотя никогда в жизни не видела наяву этой военной машины. Мне снилось, что я бегаю по дому и не знаю, где мне спрятаться от страшного танкового дула, а оно меня почему-то везде находит, куда бы я ни пряталась. Еще один вариант этого сна: я бегу по изрытому снарядами полю, справа от меня горит хлеб, а слева то ли железнодорожное полотно, то ли какие-то рвы — сейчас уже не помню точно. Но любой вариант этого сна заканчивался одним и тем же: на меня наставляется дуло, и я чувствую, что сейчас прогремит выстрел… И я просыпалась. И вот странное дело: когда просыпалась, то срабатывала какая-то блокировка, и я совершенно не боялась — твердо знала, что этого в моей жизни никогда не будет. До сих пор задаю себе вопрос: откуда у маленького ребенка взялся этот страшный сон? Ну ладно бы насмотрелась страшных фильмов, и это навеяло соответствующие сны. Но ведь телевизоров в нашем обиходе тогда еще не было, а смотреть взрослые фильмы в кино меня никто не брал. Так откуда же тогда этот сон?! Загадка… Хрен с медом А этот эпизод вспоминаю с улыбкой. Однажды все разбежались кто куда, и в кухне остались только мы с дедом. Дед сидел за столом и что-то ел. Кажется, он был слегка подвыпивший. Я сидела в коляске, и мне решительно нечем было заняться. И я вертелась во все стороны и вытягивала шею, насколько это было мне доступно. Представьте себе непоседливого ребенка, сидящего в одиночестве и чинно ожидающего, когда на него обратят внимание. Трудно даже вообразить сие умильное зрелище… А еще труднее ребенку переживать свое одиночество, сидя в коляске без занятий. От нечего делать я изучала кухню, водя глазами туда-сюда, и мне стало ужасно интересно: что же дед ест? Сначала я несмело спросила его: — Дедка, а что ты ешь? Дед промолчал, зная мой прилипчивый характер: вступишь с ней в беседу — не отвяжется, изведет вопросами. И даже не обернулся. — Дедка, ну скажи: что ты ешь? — Мне ужасно стало обидно, что дед даже не обернулся. — Дедка-а-а! — завизжала я. Он обернулся и невозмутимо спросил: — Чего надо? — Что ты ешь? — повторила я радостно свой вопрос: все-таки сумела завязать беседу. — Хрен с медом! — ответил дед. Я сначала онемела от такого ответа. Я уже отлично знала, что такое мед, и что такое хрен, и недоумевала, как можно два этих продукта соединить вместе. После недолгого молчания попросила: — Дедка, дай и мне маленько попробовать! Дед встал, подошел ко мне и молча протянул наполненную ложку. Я радостно хватанула ртом — и замерла… Через секунду дом огласил мой рев. И сразу же все сбежались — кто откуда. — Что кричишь, Тома? — вопрошала баба. Но я только слезами захлебывалась. — Миш, чего это она закричала? — грозно спросила баба у смущенно молчавшего деда. — Да я ей свое кушанье дал попробовать, тертую редьку с толченым чесноком, она так просила, — виновато усмехнулся дед. — Да ты что, старый, с ума сошел? Ребенку — редьку с чесноком! Она же задохнуться могла! — заругалась баба, возмущенно замахав руками. Потом меня отпаивали сладким чаем, советовали дышать глубже, ласково гладили по голове, громко жалели… А я усвоила: стоит заплакать — и все о тебе вспомнят. Панамка В голову назойливо напрашивается один смешной эпизод. Сестре Оле исполнился годик, и, чтобы выносить ее гулять на улицу, мать сшила ей чепчик. Не было только кружева для оторочки, и мать решила отпороть кружево от моей старой панамки: ткань на ней сносилась, а кружево оказалось прочным. А я из этой панамки почти не вылезала: она была удобная, на завязочках. Но, несмотря на мою любовь к ветхой панамке, мать все-таки решила сделать по-своему, и сколько я ни орала, что это моя панамка, мать распорола ее. Собрав меня на улицу, она вместо распоротой панамы надела на меня новенькую, только что сшитую, беленькую, аккуратненькую, на одной пуговке — обычная панамка для ребятни. Я вышла на улицу, и через три минуты со двора донесся мой рев. Все домочадцы в недоумении высыпали из дома во двор, сначала никто не понял, от чего я заревела. — Нёмка, ты чего ревешь-то? — недоумевала мать. — Панамка-а-а! — орала я, захлебываясь рыданиями. Все подумали, что панамку у меня кто-то отобрал, но через минуту ситуация разъяснилась: оказалось, что едва я вышла на улицу и непроизвольно мотнула головой, моя новая панама слетела с головы и оказалась в огороде. Панаму нашли, водворили на место, то есть на мою голову. Однако история повторилась — ну никак не хотела панамка без завязок держаться на моей чрезмерно подвижной голове! И после трех полетов с головы на землю мой головной убор преобразился до неузнаваемости и стал походить на грязную тряпку. От меня, вздохнув, отстали, и с тех пор я гуляла без панам. Папа Саня — Пап, пойдем к тете Вале, ну ты же обещал… Ну папа Саня… — через каждые пять минут назойливо напоминаю я отцу. — Я тебе что сказал? Вот дочитаю книжку и пойдем, — отвечает рассерженный отец. Мы остались с ним дома вдвоем, остальные разошлись по своим делам. Отец сидит на бревнах, привезенных дедом для домашних нужд, и читает учебник — он тогда готовился на вечерние курсы. Но, видимо, из-за моей назойливости ничего не мог понять из того, о чем читал. Я чуть ли ни носом водила по странице его учебника и ныла: — Ну когда мы пойдем к тете Вале? — И, видимо, окончательно достала отца своим нытьем. — Ладно, побудь тут, унесу книгу в дом, и мы пойдем к тете Вале, — покорился он. Но я уже изучила характер своего папаши: когда ему что-то неохота делать, он готов отвязаться любым способом. И в этот раз я заподозрила его во лжи — он ушел в дом, и как мне показалось, долго не выходил. Я постояла, подождала и, когда поняла, что он меня обманывает, решила пойти к тете Вале самостоятельно. Я направилась к воротам, откинула крючок, вышла и стала раздумывать, как мне лучше дойти до дома Кисляковых. Тетя Валя доводилась моему папе сводной сестрой (по матери), они жили в начале улицы, а наш дом стоял в середине. По дороге я побоялась идти, так как понимала: если проедет машина, то мне некуда свернуть. А вдоль оград была протоптана тропинка — туда-то я и сиганула в своих ходунках. И побежала. Разумеется, по-настоящему бегать я не могла, но изобразить из себя бегущую постаралась: гоню по тропинке ходунки и стараюсь погромче топать сандаликами. Картина, должно быть, препотешная. Соседи стоят, смотрят на меня и улыбаются. Я уже миновала третий дом от нас, когда отец погнался за мной и, догнав, так схватил сзади ходунки, что у меня аж зубы цокнули. И потащил домой. — Что, Саня, уже в догонялки играете? — шутили соседи, спрашивая отца. Зато мне было не до улыбок — я пролежала в кровати зареванная до самого вечера. А вечером, когда собрались все домочадцы, отец рассказал им про мое бегство. Все хохотали, только я сидела в коляске надутая и про себя твердила: все равно сама убегу. *** Пока я жила с родителями, я много где побывала, благодаря отцу: когда он был в духе, то прогуливал меня, посадив к себе на загривок, и таким же макаром водил в цирк и в зоопарк. Я тогда даже представить не могла, что мой папка совсем скоро нас с сестрой предаст — уйдет из семьи. До сих пор пытаюсь найти оправдание этому поступку, но, кроме эгоистичного мужского предательства, никак не могу это охарактеризовать. В голове вертится один назойливый вопрос: почему так легко и жестоко предают самых близких людей? Хотя нет, одно оправдание все же этому есть — никому не хочется выглядеть неполноценным. Ведь когда у вроде бы совершенно здоровых родителей рождается инвалид, то это как бы свидетельствует об их внутреннем нездоровье, выявляет скрытые заболевания, незримые дефекты, которые выходят наружу через ребенка-инвалида. И в таком случае чаще всего мужчина обвиняет женщину и безжалостно бросает — и ее, и безвинного ребенка. Но все эти вроде бы разумные рассуждения подчас далеки от истины. Причины врожденной инвалидности самые разные: и генная мутация может произойти, и травма, и заражение плода извне, и плохая экология, которая вроде бы не приносит вреда ни детям, ни взрослым, но отыграется на внутриутробном существе… А может, сама матушка-природа не хочет, чтобы все люди были одинаковыми, и демонстрирует, что люди могут быть всякими, только дайте им возможность жить, расти, развиваться, совершенствоваться. И, действительно, из инвалидов часто формируются сильные одаренные личности. Так что не бойтесь, если в вашей семье появится необычный ребенок, и не грешите на собственное здоровье, иногда от родительского здоровья состояние новорожденного совершенно не зависит, и нечего себя корить. Лучше сделайте все возможное, чтобы этому необычному человечку жилось хорошо и интересно. Последние домашние вечера Живя дома с родными, я особенно любила вечернее время, когда весь дом успокаивался и наступала тишина. Только в кухне ещё горел свет — баба с мамой завершали последнюю уборку. И оттуда через шторки падала полоска света в тёмную комнату. Я лежала на койке и слушала тишину дома. Приглушённые голоса на кухне долетали до меня уже сквозь легкую дрему, и я даже не предполагала, что скоро всё это благоденствие закончится, и этот уютный дом навсегда исчезнет из моей жизни... Если бы я это знала или хотя бы предчувствовала эту беду, я бы, наверное, постаралась запомнить каждую стеночку, каждую трещинку на ней... Но я была ребёнком и не могла представить, что меня ждёт через некоторое время, что этот милый домик с садиком и огородиком вскоре останутся лишь в моих воспоминаниях. Когда я начинала писать эту книгу о своей жизни, то боялась, что не смогу рассказать, что пережила, попав в детдом — это случилось осенью 1962 года. Но как ни оттягивала описание того грустного события, всё же неуклонно приближаюсь к нему. Так вот, в один из осенних дней я, сидя в коляске, увидела на комоде коробку цветных карандашей и тетрадку. Я удивилась этой «незапланированной» покупке и спросила мать: «Мама, а это кому купили?». Мать как раз убирала мою постель. Медленно повернувшись ко мне, она смущенно произнесла: «Это мы тебе купили. Ты скоро поедешь в школу. Учиться будешь... читать, писать...». В эту секунду я почувствовала скользящий холодок в душе — будто заподозрила неладное. И, как ни старалась, не могла представить себе: какой она будет, эта школа. И после этого дня начались хлопоты у моих родителей по моему устройству — не в обещанную школу, нет, а в детский дом. Меня отдавали из родного дома в детский дом… Отец сначала съездил в тот детский дом для детей с нарушениями (меня же можно было отдать только в такой) посмотреть, что туда нужно везти. Они с мамой поначалу даже мою кровать хотели туда доставить. Но оказалось, что подходящие кровати там имеются. Решено было взять только две моих «рабочих» коляски, вернее, ходунки для прогулок и детскую коляску, в которой я сидела постоянно — то была обычная прогулочная коляска, которую отец слегка переделывал по мере того, как я росла. Странно вели себя мои домочадцы в то время. Бабушка почти перестала ко мне подходить, а дед вообще исчезал куда-то на целый день. Я остро чувствовала это странное отношение ко мне, но никак не могла понять, почему так происходит. И вот только спустя несколько десятилетий, став взрослой и мудрой, могу объяснить непонятное поведение и изменившееся отношение ко мне моих родственников. Они, наверное, уже представляли, куда я попаду и каково будет там мне, беспомощному ребёнку-инвалиду, чувствовали вину и ощущали неловкость в душе. Но сколько бы я ни скулила о своём далёком солнечном детстве, о шести счастливых годах, прожитых с родичами, мне всё равно придётся набраться мужества и описать свою последующую жизнь в детдоме — мой самый тяжёлый жизненный период. Часть 2. В детдоме Куда меня привезли?! За окном уже стоял хмурый октябрь, когда родители собрались везти меня в детский дом. В памяти от того дня почему-то не осталось ясной картины: все нечеткое, серое, размытое, будто стёртая страница. Помню, что был уже поздний вечер, когда мы приехали на станцию Бочаты, неподалеку от которой находился тот детдом. Помню, как отец нес меня на руках от станции. Я притихла у отца на плече, прижалась к нему и уже чувствовала страх... Мы подошли к темному деревянному бараку, отец постучал в дверь, за дверью заскрежетали замком и распахнули дверные створки. Меня внесли в комнату, положили на неопрятно убранную кровать. То была приемная комната. В нее сбежались все, кто работал в тот день. Тот специализированный детдом организовали недавно, и каждый поступивший ребенок вызывал любопытство. Обычное или необычное зрелище — судите сами: молоденькие родители привезли своего больного ребенка, несколько странного в своих движениях. Однако когда я лежала, эта странность была незаметна, только если повнимательнее приглядеться и обратить внимание на положение рук и ног. А так на кровати лежала совершено обычная шестилетняя девочка, любопытная и любознательная. Лежа на «приемной» кровати, я разглядывала грязные, давно не беленные стены, молча переводила глаза на незнакомых людей и ждала, когда отец переговорит со всеми, возьмет меня на руки и скажет: «Ну, дочка, а теперь поехали домой». И мы вернемся на станцию, сядем в поезд и вскоре будем дома. Но этого не произошло… Все обернулось иначе. Окружавшие меня люди расступились, и в приемную вошла моя мать (она приехала заранее, чтобы обо всем договориться и устроить меня получше). На ней был надет казенный халат, застиранный так, что разноцветные вилюшки рисунка были уже еле видны. Она подошла и стала раздевать меня. Дождавшись, когда мать снимет с меня верхнюю одежду, отец подошел ко мне, наклонился и, поцеловав, хотел уйти, но я своей рукой невольно сбила с него шляпу. И он замешкался, поднимая ее с пола, а когда стал выходить, все заметили, как у него бегут слезы по щекам. Я этого не помнила, да и не видела тогда его лица, это мне рассказала одна нянечка, когда я уже подросла. После ухода отца мать взяла меня на руки и понесла по длинному серому коридору. Зашла в палату, положила меня на свободную койку, попросила, чтобы подвинули еще одну койку, чтобы я не упала, и ушла. А потом выключили свет. В полутьме я стала разглядывать силуэты: много коек, и все заняты, на них лежат дети-призраки. По всей палате металась здоровая деваха со стриженной под овцу головой, то есть голова у нее была острижена клочьями, местами были островки волос, местами виднелась кожа. Я же не чувствовала внутри себя ничего, будто обмерла, мне казалось, что живыми у меня остались только глаза, которые поневоле еще смотрели на непонятный окружающий мир. За окном наступила густая осенняя ночь, в палате стало тихо, и эта чужая тишина помогла мне опомниться от ступора, в котором я находилась. Я всю ночь, не сомкнув глаз, всматривалась в темноту и ждала, что в темноте мама тихо придет ко мне: ведь мне сейчас так плохо и страшно. Но темнота была неумолима, и моя мама так и не пришла. Утром, едва няни стали проверять детей, чтоб перестелить тех, кто обмочился, я снова заревела, отчетливо прочувствовав, что вероломно брошена. Деваха, что накануне металась по палате (кстати, она утром первой проснулась), стала снова как бешеный зверь мотаться по проходу между коек. Она выглядела так уродливо и дико, да еще в этой стрижке под овцу и в серой казенной палате, что страшнее, наверно, нельзя и придумать. Няни остановились возле моей койки и принялись утешать: — Ну что ты плачешь? Посмотри, сколько у тебя здесь подружек. Вон Люда, такая же как ты, лежит и не плачет. Няни подняли эту Люду и под руки подвели к моей койке — то была девчушка, которая тоже не могла ходить самостоятельно, и когда няни вели ее, я заметила, что она наступает лишь на пальчики. Еще я поняла, что подходят к этой девчушке редко и еще реже ее поднимают. Люда улыбнулась, но от этого мне стало еще тоскливее. Я отвернулась и снова заревела. Мое сознание не хотело все это воспринимать — что я точно так же буду лежать в этой серой палате, одна, без мамы, и что эти тети ко мне тоже редко будут подходить. Я никогда так подолгу не плакала, а тут от долгого рева у меня даже пересохло во рту, губы обметало, захотелось пить. Через какое-то время в палату снова вошли няни и стали разносить завтрак. Ко мне подошла женщина с тарелкой каши, но я отвернулась. И женщина равнодушно отошла от меня, даже не предложив чаю, от которого я бы не отказалась. У меня уже не было слез, они закончились, выплакала все, что имелись, и я лишь подвывала, как полудохлый щенок. А тут еще стриженная под овцу деваха подскочила к моей койке и рявкнула: — Чего орешь? Целый день орет и орет, привезли ее на нашу голову! Мне тогда показалось, что в меня будто камень бросили, дома на меня никто так зло не ругался. Мой вой тут же прекратился, но тело продолжало беззвучно содрогаться. Я уже не помню, до самого ли обеда я так прострадала или все-таки забылась сном. Помню только, что когда ко мне наконец-то пришла мать, едва завидев ее, я снова зарыдала в голос. Она взяла меня на колени и она стала меня успокаивать, качая и приговаривая: — Не плачь, посмотри, сколько здесь девочек — и никто из них не плачет. Мы с папой будем к тебе приезжать, будем брать тебя в гости на выходные… — Не хочу я в гости, я хочу домой!!! — орала я, захлебываясь слезами. Мать в те минуты мне показалась какой-то чужой — то ли из-за казенного халата, что был на ней, то ли я уже явственно почувствовала свою дальнейшую незавидную судьбу. Она напоила меня водой, хотела покормить обедом, но я заупрямилась и не желала от нее отцепляться. С трудом удалось меня от нее оторвать. — Тома, мне же надо твою коляску доделать — обшить ее. А то как ты будешь сидеть на необшитой коляске? А я ее сейчас обошью, и тебе будет удобно на ней сидеть. А потом мне надо будет ехать домой, там Ольга одна, она тоже соскучилась и тоже плачет без меня. Пока мать меня увещевала, я обратила внимание на то, что она меня называет не Нёмкой, по-домашнему, а Томой. Видимо, любимая Нёмка осталась дома, а сюда, в детдом, отдали ненужную Тому… То ли я к тому времени совсем ослабла от рыданий, то ли согласилась с доводами матери, то ли меня отрезвило обращение «Тома» вместо «Нёмки», но я ее отпустила. Обед закончился, нянечки убрали посуду. Когда время шло к четырем, в дверях палаты появился отец. Но не прошел ко мне, а встал в проеме и прислонился к косяку. Я видела, как он улыбается. Мне захотелось завизжать, но у меня не осталось ни капельки сил. Я лишь уставилась на него и смотрела до боли в глазах. Тут вошла воспитательница и стала жаловаться ему: — Ваша дочь все время плачет, ни в какую не хочет есть! — Ничего, немного привыкнет и будет играть. Она такая изобретательная: из любой бумажки придумает себе игру, — ответил папа, развернулся и ушел. *** К вечеру мне привезли коляску, уже обшитую мамой. То была обычная детская прогулочная коляска, для прочности и комфортности со всех сторон подбитая плотной материей. Детских инвалидных колясок тогда в Кузбассе то ли вовсе не было, то ли они были доступны лишь немногим. — А где мама? — спросила я у нянечки. — Твои мама с папой уехали. И мама попросила, чтобы мы тебя посадили в коляску. Если хочешь — посадим. Я кивнула в знак согласия, она посадила меня в коляску и ушла. Я вытянула шею, чтобы получше рассмотреть, что за окном. Там было все серым-серо — унылая осень… Вдали я увидела деревянный домик — точь-в-точь как наш! И я снова заплакала. Наверное, именно тогда я впервые твердо осознала, что в моем положении ничегошеньки нельзя изменить, ну совсем ничего. Если бы я ходила, то могла бы встать и уйти. Сбежать отсюда! Но я была беспомощна, и так будет всегда… Обычный больной, не хроник, знает, что пройдет какое-то время, он выздоровеет и снова будет ходить и наслаждаться жизнью. Или вот моя Нянька: ей трамваем отрезало ногу ниже колена, но она освоила протез, да так наловчилась, что бегала как на своих двоих. А у меня — безысходность: ни выздоровеешь, ни компенсируешь. Безысходность навсегда: ее нельзя изменить, от нее нельзя встать и уйти, я теперь должна существовать именно такой, это моя единственная форма жизни. Я сидела и впервые в жизни размышляла. Мне хотелось понять: почему у меня так? Очень трудно понять и принять, что ты можешь быть только такой, и что тебя словно посадили в какой-то чудовищный вакуум, где многое отсутствует, и ты бессилен выбраться из него, потому что он — это твоя жизнь. Мои мысли прервал приход парикмахерши. Не спрашивая меня, она быстро остригла мою голову наголо, не реагируя на протестующие вопли. Потом я сидела и скулила, слез не было: имеющиеся уже все выплакала, а новых еще не набралось. Тут в палату вошла Надька — девочка, так испугавшая меня накануне своей по-овечьи стриженой головой и звериным метаньем, — и сочувственно спросила: — Чего плачешь? Волосы жалко? Надька мне уже не казалась такой ужасной. Я уже знала, что ее к нам привезли из вспомогательной школы, а голова у нее такая страшная, потому что ее стригли не машинкой, а ножницами. Наверное, мой скулеж услыхали в коридоре — в палату зашел кто-то из персонала, потом позвали ребят. — Покатайте эту девочку по коридору, чтобы ей не было скучно. Мальчишка, взяв мою коляску, весело покатил ее, а я сидела и думала про свое. Мне пришла в голову интересно-дикая идея: а что, если снять вот эту мою кожу? Эта кожа плохая, она мешает мне двигаться. А под плохой кожей наверняка есть другая, хорошая, ничему не мешающая, и вот в ней я уж точно встану и буду ходить. Но как и кто это сделает? Это была моя единственная спасительная фантастическая мысль, которую я решила додумать ночью. Когда все уснули, я решила как царевна-лягушка содрать с себя, как мне подсказало мое больное воображение, виновную в моей беде кожу, и я стала под одеялом царапать ногтями свои коленки, пока не почувствовала боль. А когда, еще немного поразмыслив, я поняла, что кожа у меня одна-единственная и другой под ней нет, так что сдирать не стоит, — мне стало страшно, и безнадежность вновь навалилась на меня. А в полусне ко мне пришло видение: будто моя койка несет меня на станцию, сама собой забирается в поезд, затем, как умный послушный конь, доставляет меня в целости и сохранности прямо в наш двор. Из дома выходит баба, снимает меня с койки-коня и говорит спасибо. А я, в свою очередь, радостно восклицаю: «Вот я и приехала!»… Потом видение исчезло, и я вернулась в свою мрачную безысходность. Не дай Господи еще раз прожить то отчаянье! *** Когда меня сдали в специализированный (т.е. для детей с физическими и умственными отклонениями) детский дом в поселке Бочаты Беловского района — осенью 1962 года — мне было 6 лет и 10 месяцев. И в этом детдоме мне предстоит провести долгих 12 лет — до отправки в ПНИ в мае 1974 года. Осваиваясь в детдоме, я постепенно уразумела, что меня ожидает не очень-то счастливая жизнь, к которой, хочешь не хочешь, а придется привыкать, а за что-то, возможно, придется и побороться, и внутренне я даже уже приготовилась к сопротивлению. Но я не могла предположить, что будущее будет куда печальнее… Не знала, что вот с такой же легкостью, с какой определил меня в детдом, наш папка уйдет из семьи, уйдет насовсем, запросто перечеркнув двух своих дочек. И, наверное, как бы в оправдание своему неблаговидному поступку, возьмет себе в жены хроменькую женщину, а на суде, когда их с матерью будут разводить официально, скажет (имея в виду жен): я одну обидел, вторую обижать не хочу. Странно, что он двух своих детей в счет не взял, не осознавал, что, прежде всего, их обидел, осиротил… Невкусный суп Проснувшись утром и еще не выйдя полностью из своего чудесного сна, я некоторое время ждала этого чуда — что койка-конь сорвется с места и помчит меня домой. Но когда поняла, что это всего лишь сон, то снова разревелась. Ко мне никто не подходил, завтраком обошли, увидев, как я отрицательно мотаю головой, и на мой рев не реагировали. Няни уже начали греметь посудой в коридоре, готовясь к обеду, когда в палату заглянула миловидная молодая воспитательница в белоснежном халате. Внимательно посмотрела на меня, подошла, присела на краешек постели и приветливо просила: — Как тебя зовут? Я перестала реветь и насторожилась. Она сосредоточенно разглядывала меня и, чуть улыбнувшись, повторила свой вопрос: — Ну так как тебя зовут? — Тома Черемнова… — все еще всхлипывая, ответила я. — Тома, сейчас принесут обед, и я тебя покормлю. — А мама где? — насупилась я, не сочтя нужным обсуждать обеденное кормление. — Мама твоя сейчас на работе, а в выходной обязательно к тебе приедет, — сказала она, вставая. Воспитательница вышла в коридор и спустя минуту вернулась с тарелкой супа в руках. Я шмыгнула носом, но она не дала мне додумать мою заветную мысль о счастливом возвращении домой и определиться: плакать или погодить. Зачерпнув ложкой суп и подув на него, она протянула ложку мне. Я покорно разинула рот и сглотнула еду. Удивилась: то, что она мне дала, не было похоже на суп. Это была густо сваренная пшенка, заправленная картошкой и рыбными консервами. Почувствовав на языке рыбью косточку, я выплюнула ее на полотенце, которым она мне прикрыла мне грудь, чтобы я не обливалась. — Вот молодец! Вкусный суп? — спросила она. Я скорчила рожу. Суп был для меня слишком необычным: пресная пшенная каша, крупно порезанная картошка и мелкие рыбьи хребты, — глотая эту мешанину, я не ощутила ни малейшей вкусности. Это был первый суп, который я попробовала в детдоме. Потом я к нему привыкла — еда как еда. …Через много лет, когда я все же добилась перевода из отделения психохроников в дом инвалидов общего типа и обосновалась на новом месте, я поклялась, что если когда-нибудь состоится следующий рывок в моей жизни — я покину казенное заведение и обрету родные домашние стены, — то в торжественный вечер обязательно приготовлю именно этот странный суп. Разумеется, мне вовсе не полюбился скудный казенный суп — просто я таким оригинальным образом хотела устроить прощание с казенным домом — сварить суп, точно такой, каким его попробовала впервые. Но судьба, увы, еще не предоставила мне такого счастья, как свой дом. Да и вряд ли уже предоставит… В мою память навсегда врезались первые впечатления от детдома: унылые серые стены, окна без занавесок и долгое ожидание нянечки. Но самым ужасным было молчание — даже представить страшно: целая палата детей и отсутствие разговоров от ухода и до прихода нянь, только стоны и мычание. И тот страх обреченности… А та молодая воспитательница — Зинаида Степановна Еськова — проработала в том детдоме со дня его открытия по 1968 год. Насмотревшись на наши страдания, она так испугалась предстоящих своих, что повесилась, когда ее сын-первенец родился с водянкой в голове. Не выдержала испытания… Соседки, воспитательницы, нянечки На следующий день мой рев снова повторился, и от еды я упорно отказывались. Это всем уже, наверное, изрядно надоело: ходячие разбегались сразу после завтрака, а мне оставалось лишь всласть реветь до самого обеда, в одиночку переваривая свою беду. Однако в тот день мне не дали прореветься. В палату зашла уже другая воспитательница, Дина Васильевна, молча взяла меня на руки и понесла в коридор. Гладя меня, утешала: — Ну что ты все время плачешь?.. — Домой хочу! — сипела я, исходя ревом, что уже было не совсем нормально для ребенка, проведшего целых трое суток в детдоме: пора бы девочке и попривыкнуть. — Чего это она так ревет? — недовольно поинтересовалась женщина, сидевшая в коридоре в ожидании главврача. — Недавно привезли, скучает по дому, — объяснила женщине Дина Васильевна, легонько покачивая меня. — У меня дочка такого же возраста, и, как чуть дольше задержусь на работе, тоже скучать начинает. — Затем обратилась ко мне: — Томочка, давай, ты не будешь больше плакать, и я с тобой погуляю. А потом твоя мама приедет. Я всхлипнула, но реветь дальше уже не было сил. Дина Васильевна поносила меня по коридору и снова занесла в палату. Хотела было положить на койку, но я вцепилась в нее и захныкала. — Тома, ты же обещала, что больше не будешь плакать, — мягко сказала она и погладила по спине. Сообразив, что у меня какие-то проблемы, спросила: — А что случилось? — Я на горшок хочу, а тетя ругается, — наябедничала я ей шепотом. И рассказала всю грустную историю. Утром, когда вошли няни и принялись менять мокрое белье, я несмело попросила одну из них посадить меня на горшок, но та никак не отреагировала. Может, не расслышала? И, когда она приблизилась к моей койке, я завопила во всю глотку: — Тетенька, я на горшок хочу!!! Няня повернула голову в мою сторону: — Что, без горшка не уссышься? Вот еще: перед одной тобой стоять буду! У меня, кроме тебя, целый корпус, — мрачно проворчала она и ушла. Честно скажу — под себя никогда не писала и даже понятия не имела: как это можно писать прямо на постель? Пока что эти реалии казенного заведения — ходи под себя и жди, когда перестелют — мне были неведомы. И вот это все я изложила Дине Васильевне. Та внимательно выслушала, достала из-под койки горшок и, усадив меня на его, кликнула нянь в палату — прибежали три сразу — и строго указала им: — Вот эту девочку надо обязательно высаживать на горшок, она под себя не ходит. Поэтому подходите к ней почаще. Она все понимает и прекрасно разговаривает. Трое нянь, уперев руки в бока, бесцеремонно и удивленно разглядывали меня. Одна из них, самая бойкая, стала оправдываться: — Знаете, нам бывает некогда. Если мы не сможем подойти, пусть она просит девочек посадить ее на горшок. Вот, например, Нина может сажать ее на горшок. — Нина, будешь сажать Тому на горшок? — дружелюбно спросила Дина Васильевна мою соседку по койке, уже взрослую на вид девушку. — Ладно, буду, — покорно согласилась Нина, самая тихая и безотказная девочка в палате. Няни постояли, недоуменно переглядываясь, подняли меня с горшка, посадили в коляску и вышли из палаты. Из-за двери я услышала их недовольные голоса и поняла, что недовольство и бранные переговоры — в мой адрес. *** Через койку от меня лежала еще одна взрослая девочка, около четырнадцати лет, и она была для меня самой страшной после Надьки, стриженой под овцу. Она имела неприятную привычку: подойдет к человеку, заведет свои руки за спину, оттопырит губу, закатит глаза на лоб и прогнусавит: ну чо? Меня поражало ее сходство с бабой Ягой, нарисованной в книжке, что осталась дома. Вспомнилось, как однажды вечером родителям надо было срочно куда-то отлучиться. Они уложили меня в постель, а чтобы я не скучала, сунули мне в руки первую попавшуюся книжку. Я открыла ее и увидела бабу Ягу, летящую в ступе. Я стала внимательно разглядывать эту злодейку, изучая каждую черточку, и до того, видимо, напрягла глаза, что мне показалось, как баба Яга шевельнулась. Я так отшвырнула книжку, что та улетела под родительскую кровать. А я натянула на голову одеяло и боялась выползти оттуда. Так и уснула, не дождавшись возвращения родителей. И вот сейчас эта ожившая баба Яга донимала меня своими «ну чо?». Случись это дома, я бы тут же бойко парировала ей «а ничо!» или показала язык, но здесь от испуга лишь вжималась в спинку коляски и умоляюще смотрела: отойди, пожалуйста… Потом мне принесли мои вещи — тетрадку и коробку с цветными карандашами. Открыв коробку, я грустно посмотрела на цветные карандаши, и в горле снова застрял комок слез. Вспомнила, как эта коробка лежала на комоде, как я ее впервые открыла, какими яркими они тогда показались карандаши, а здесь, в этой серой палате, они поблекли. Я остро ощутила, что не защищена, что осталась одна, что вокруг неумолимая пустота, которая никогда не рассеется и никуда не уйдет. И мне так захотелось прижаться к бабе или спрятаться за родителей! Но вокруг была лишь пустота. Когда ввезли ходунки (мать обшила их так же, как коляску) и поставили меня в них, я повисла, не опираясь на ступни, — так ослабла за время своего затяжного безутешного рева. Своей маленькой головкой я не могла найти словесное обозначение того, что со мной произошло, я еще не знала слова «предательство», и значение этого слова познала лишь, когда подросла и начала читать взрослые книги — и поняла всю горечь и предназначение этого скорбного слова — слова из мира взрослых. А пока предательство, еще без вербального уточнения, вероломно влетело в мою и без того непростую юную жизнь. Это потом придет определение всему этому — меня просто столкнули в глубокую и страшную пропасть, на дне которой копошились, шевелились, пытаясь выжить, такие, как я, и не такие, как положено быть детям, — дети-инвалиды. Но, как известно, при затяжном падении можно научиться летать. Вот и я, пока низвергалась на дно этой пропасти, все же сумела поднять глаза и увидеть там — высоко-высоко — свободное небо с облаками и ярким солнцем, которое поманило меня к себе. И, не успев достигнуть дна этой страшной пропасти, я все же сделаю рывок к небу. Раздача подарков и мамин визит Прошло две недели — как один длиннющий кошмар. И дни были уныло похожи один на другой. Но пока я все же не предполагала, что отныне вся моя жизнь потянется вот такой тусклой вереницей однообразных дней с редкими проблесками радости. Я еще наивно надеялась, что все это временно, что скоро все изменится к лучшему, что меня отсюда непременно заберут. Если б мне тогда кто-нибудь рассказал бы мою дальнейшую жизнь наперед, у меня, наверно, не хватило бы сил дослушать этот мрачный рассказ до конца, я бы, заткнув уши, заорала: хватит! Но человек оттого и живет дальше, что не знает, каково его будущее. Через две недели в детдоме открыли второй корпус, и нас разделили: совсем тяжелых — лежачих и невменяемых — оставили на своих местах, а остальных, включая меня, перевели. И снова серая продолговатая комната, кровати в два ряда, как в солдатской казарме, пять окон и небольшая печка. Моя койка оказалась за этой самой печкой, по ночам я смотрела на отблески огня и тихонечко плакала. И панически боялась открытых окон — ведь у нас дома окна на ночь всегда закрывали ставнями: а вдруг кто залезет. Дня через три после расселения, когда нас утром подняли и я уже сидела в коляске, в палату вошла воспитательница с двумя большими коробками и сообщила: — Девочки, я принесла вам подарки. Сейчас я каждой раздам по подарку, но если кто не будет слушаться, у того подарок заберем. Ну что, с кого начнем? Одну коробку она поставили на пол, а из второй стала извлекать ленты и расчески. Раздав девчонкам по ленте и по расческе, она нагнулась к коробке, стоящей на полу, и стала нервно перебирать находящиеся в ней предметы. Выудив из кучи оберточной бумаги куклу, разогнулась и протянула ее мне. Я скорчила недовольную мину — никогда не любила кукол, и дома-то в них не играла. — Ты чего сквасилась? — удивилась она. — Я ленточку хочу, — осмелилась попросить я. — Ну и на что ты ее будешь привязывать? На уши? – ядовито хмыкнула она. Сунула мне в коляску куклу и вышла из палаты. Девчонки разглядывали яркие ленты и большие (видимо, для длинных волос) расчески. А я, сидя в коляске с нежеланной куклой на коленях, вся обзавидовалась: уж очень яркие у девчат были подарки. Взяв в руки куклу, я начала ее рассматривать. Ничего завидного в этой кукле не было: белое платьице в мелкий красный цветочек, грубо нарисованное личико, на голове коричневая закраска, обозначающая волосики, — кукла как кукла. И я не очень-то сожалела, что она у меня через час исчезла, и я ее больше не видела, — наверное, кто-то из нянь утащил домой для своих дочек. А еще через два дня нам выдали покрывала ядовито-зеленого цвета, тоже представив как подарки. В «мертвый час» (так именовали время для дневного сна) они висели на спинках кроватей, и я, не способная спать днем, подолгу смотрела на них. И моим глазам становилось больно. *** Однажды, проснувшись утром, я глянула на противоположное окно и увидела на крыше соседнего корпуса снег. Ну вот и зима пришла, — вздохнула я горько. Снег на крыше лежал такой же пушистый, как и у нас дома, во дворике… На улице разлился мягкий зимний день. После обеда ребятня (у кого было что надеть) высыпала во двор, а я сидела в коридоре напротив окна, смотрела на закрытые ворота детдома и мечтала, как ко мне приедут родители, привезут мою черную шубку с белой шапочкой, и отец на руках понесет меня на станцию. И домой, домой, прочь из этого ужасного детдома, где ни одного родного лица, ни единой близкой души! Через три или четыре дня ко мне приехала мать, и я ее упросила вынести меня на улицу. Она сначала не хотела, ссылаясь на то, что меня не во что одеть, ведь вся моя зимняя одежда осталась дома. Но меня неожиданно поддержали девчонки, посоветовав ей завернуть дочку в одеяло. Сидя с матерью на улице, я поначалу боялась спросить ее: когда они меня заберут домой? Но потом всё же осмелела и спросила, подспудно понимая, что вряд ли получу на свой вопрос четкий и ясный ответ. — Вот когда приедем вдвоем с папой, тогда и возьмем тебя домой. Я же одна тебя не донесу до станции, — виновато ответила мать. И так стыдливо отвела глаза, что я уже окончательно убедилась в том, что меня сюда определили надолго. Ее непродолжительный визит пагубно отразился на моем и без того подорванном здоровье: я слегла с температурой, а утром у меня по всему телу высыпала розоватая сыпь. Главврач решила, что это ветряная оспа и уже собралась отправить меня в изолятор, но я ей сообщила, что дома уже болела ветрянкой. «Ааа, значит, нервное…» — протянула главврач и успокоилась. *** После приезда-отъезда матери я стала чахнуть и таять, будто слепленная из снега. Няни уже больше не сажали меня в коляску по утрам, еду мне давали прямо в постель, я нехотя съедала две ложки и отказывалась. В детдом — видимо, в связи с расширением — стали набирать новых сотрудников. Пришли новые няни, и среди них оказалась Анна Степановна Левшина, родная сестра нашей старшей медсестры (собственно, из-за этого родства ее и приняли на работу). Что это была за женщина, вы поймете из дальнейшего описания. Увидев меня, Анна Степановна стала допытываться, как моя фамилия, я назвала, она сделала вид, что не поняла, спросила снова, и так переспрашивала раз десять. Я отлично видела, что она прекрасно меня понимает. Эта няня явно добивалась от меня того, чтобы я разволновалась, смутилась и стала бояться ее. Приходя в ночную смену, Анна Степановна начинала разгонять всех по койкам, не разрешая никому даже тихо посидеть, ребятишки в ее смену зарывались под одеяло с головой и затихали. А она ходила по коридору от палаты к палате и прислушивалась: кто из нас шевелится. Больше всего ее окриков выпадало на мою долю, ведь я по своему состоянию (характерный для ДЦП гиперкинез, неконтролируемые движения рук и ног) не могла спокойно лежать. И если эта няня-садистка слышала, что я задвигалась на койке, тотчас же раздавался ее зычный крик: — Черемнова! Чего ты возишься под одеялом? От страха я вся сжималась, и на глаза наворачивались слезы. Иногда мне безумно хотелось в туалет, но приходилось терпеть и ждать, когда няни всех поднимут — примерно часов в одиннадцать-двенадцать ночи нас поднимали и предлагали «сходить на таз». Если б только кто-то мог слышать, как я сама себя уговаривала потерпеть до этого момента! Иногда так и не дождавшись времени «сходить на таз», я засыпала, а потом, проснувшись, мучилась из-за невозможности опорожниться. Какой мерой можно измерить вот эти страдания больного ребенка? Почему ребенок должен лежать с переполненным мочевым пузырем? Неужели так сложно высаживать на горшок по необходимости, а не по команде? Справедливости ради отмечу: старшая медсестра была вполне нормальной и незлой женщиной. А вот ее родная сестра, эта Анна Степановна, оказалась такой утонченной садисткой. Ну куда ей в нянечки? Такие няни только калечат психику ребенка. Анна Степановна застряла в моей памяти на много-много лет, причем каждый раз я ее вспоминала с содроганием. А когда через четыре десятилетия я писала сказку-повесть «Шел по осени щенок» и там у меня фигурировала дурная злюка-уборщица, безжалостно гонявшая шваброй беззащитного щенка, имя этого непривлекательного персонажа вывелось само собой: Анна Степановна. В повести дурную Анну Степановну быстро усмиряют и строго указывают ее место: мыть полы. А вот реальную Анну Степановну, к сожалению, на место никто не поставил… Желаю умереть… Воспитатели попросили нянь, чтобы те, невзирая на мою апатию и нежелание вставать, все равно по утрам меня одевали и усаживали на коляску — чтобы у меня пробудится хоть какой интерес к жизни. Но я и в коляске сидела вялая, безразличная ко всему, с прикрытыми глазами. Я просто тихо заставляла себя умирать, не желая вступать в этот чуждый, насильно навязанный мне мир. Вскоре шаловливая ребятня открутила все гайки у коляски, и стало невозможно ею пользоваться. В игровой комнате стояла лишняя кровать, меня приносили теперь на эту кровать. Укладывали поудобнее и тут же забывали о моем существовании. А я была и рада этому, ни в чьем внимании не нуждалась, мне хотелось поскорее покинуть это место и этот мир. А в то, что из этого проклятого места меня заберут домой, я уже не верила. Уйти отсюда можно только одним путем — умерев. Желаю умереть… Почему мне так не терпелось покинуть этот мир, станет ясным из дальнейших бытовых подробностей: холодно, голодно, грязно, гнусно, гадко. Достойны отдельного рассказа здания, где мы обитали, — если их вообще можно назвать зданиями. До того, как сюда собрали больных детей, здесь располагалась школа лесоводов. Школа состояла из двух деревянных бараков с печным отоплением. В каждой комнате находилось по печке, их топила истопница, работавшая днем. А ночью печки должны были поддерживать ночные няни, поэтому к полуночи во всех комнатах печки еле теплились, а одеяла на нас были старенькие, не толще простыней, и мы нещадно мерзли. Но самое ужасное и постыдное состояло в другом: в нашем корпусе-бараке не было ванной комнаты, где бы можно было мыть таких, как я хотя бы еженедельно. Прошло два месяца как меня привезли в этот дом, и за это время ни разу не помыли. В другом корпусе (где меня принимали) впоследствии оборудовали ванны, чтоб обмывать ослабленных детей, а в нашем корпусе негде было эти ванны поставить. Стоял лишь длинный ряд рукомойников с холодной водой, где производилось утреннее умывание. Я была домашней чистюлей, нас с Серегой каждую неделю купали. А в детдоме два месяца не мыли!!! Ходячих тоже пока не в чем было водить в баню, потому что не у всех имелась зимняя одежда. Результаты антисанитарии не заставили себя ждать: в нашей палате у всех завелась чесотка. Для меня это было настоящей пыткой — чесалось, в основном, сзади: спина, лопатки, недосягаемые для моих рук. Представляете, что у вас зудит вся кожа, а вы не можете почесаться. А тут еще неприятность: не оказалось одежды моего размера, я была самой маленькой, и на меня надевали, что под руку попадется. Бывало, такое оденут, что хоть через подол меня вытаскивай, хоть через ворот, везде свободно прохожу. По сей день свербят в памяти тошнотворные эпизоды, связанные с манной кашей. Живя дома, я редко ее ела, к тому же дома ее варили вкусно. А тут поварам неохота было беспрерывно мешать кашу во время варки, и манка сбивалась в комки. Я эти манные комки дико ненавидела, как попадет этот комок в рот, ну хоть плачь: и разжевать его не могу (силенок нет), и противно до того, что аж желудок к горлу подтягивает. А выплюнуть нельзя — няни тут же начинают мерзко орать: «Чего выплевываешь кашу? Не хочешь жрать, так и скажи!». Особенно усердствовала в оре вечно сердитая Анна Степановна. Тогда я стала хитрить. Когда меня кормили, то на грудь клали полотенце, чтобы я не обливалась, — и я стала в это полотенце незаметно выплевывать манные комки. Так мне удавалось съесть хоть немного жидкой каши и избежать неистового грубого ора. Но потом мне все равно доставалась от нянь, когда они вытряхивали полотенце и оттуда вылетали манные комки. Я с неподдельным ужасом наблюдала, как потом дежурная няня преспокойно ест свою порцию этой каши с комками, и у нее по скулам ходят желваки. Ничего не скажешь, здоровая деревенская баба, проголодавшаяся за день, она могла съесть и не такое. Зато меня, не сумевшую справиться с манной кашей, ночью мучил зверский голод: мне казалось, что желудок прирос к спине, и внутри у меня ничего нет, я как пустой мешок. Потом я исхитрялась прятать в подол своего необъятного платья кусочки хлеба, но они мгновенно исчезали при моем неукротимом ночном аппетите. Были у нас нянечки, которые сами раздавали оставшийся хлеб желающим, а были и такие, которые все остатки еды без разбору вываливали в помойное ведро (пищевые отходы, кажется, относили свиньям). И кормили няни по-разному. Иная предварительно остудит еду, бережно поднесет ложку к моему рту, дождется, когда я проглочу, и ни капли не прольет. А Анна Степановна, любительница поорать, поставит тарелку с супом на тумбочку и начинает пихать ложку мне в рот, невзирая на то, что суп горячий. И хоть вся исплачься перед ней, что губам больно, она свое твердит: ничего, пузо согреется. И после такой варварской кормежки ошметки еды обнаруживались повсюду: на одежде, на постельном белье, на полу. В ее смену я всегда отказывалась от еды и пуще прежнего желала умереть. Что случилось с моей семьей Ничто не проходит безнаказанно. Избавившись от больного ребенка, родители развязали узел, державший семью. Почувствовав себя свободным, отец нашел другую женщину, чтобы начать жить заново, с чистого листа. И пока я рыдала в детдоме, в моем родном доме разыгрывалась своя трагедия. И то, что меня сдали в детдом, не принесло моим родителям ожидаемого облегчения. Поехав в отпуск в деревню, где он родился, отец присмотрел там себе в новые жены хромую девушку. Почему такую вот ущербную? Наверное, из соображений, что та будет боготворить его, что снизошел до нее, уважать, почитать и безоговорочно слушаться. А, может, просто устал от непростой и нескладной семейной жизни с моей мамой. Или всерьез полюбил хромую. Забегая вперед, скажу, что второй папин брак окажется удачнее первого, хромая родит ему дочку, у них будет отдельное жилье и все такое прочее… Мать, узнав о папином решении оставить семью, забрала младшую дочь Ольгу и ушла к своим сестрам. Вот так опустела наша уютная комната в доме бабы и деда, где до нас жили бабины дочки (до своих замужеств). Уже будучи взрослой, я долго размышляла: почему же никто из моей родни не воспрепятствовал моему определению в детдом? Баба? Дед? Тетя Тамара, моя милая Нянька? Другая моя тетка — Валя? Я не имею права винить бабу в том, что та потворствовала моей отправке в детдом — я ведь ей не родная по крови. История такова: мой молодой дед приехал из деревни в Новокузнецк, женился на бабе, а в один прекрасный день вдруг невесть откуда объявился дедов сын от первой жены, да еще привел в дом уже беременную от него женщину (мою мать). И баба, не сумев перечить мужу, покорно уступила пасынку комнату своих родных дочек. Могу представить, как тяжело ей далась эта уступка! Тем более что одна из дочек, у которой не сложились отношения с мужем, продолжала проживать в отчем доме, в другой комнате, через стенку от нас. Однако баба ко мне привязалась, и я, хотя и узнала со временем, что неродная ей, все равно считала себя ее внучкой. А проживающую за стенкой неродную тетю Тамару, в честь которой меня назвали, я по-домашнему окрестила «Нянькой» и крепко дружила с ее сыном Серегой, также считая их родными-близкими. А к тете Вале ходила в гости. Мне, маленькой домашней девочке, любимой и балуемой родичами, казалось, что у нас дома все замечательно, ладно и складно. Как обычный ребенок, я любила своих близких и даже не задумывалась: а любят ли те друг друга? Иногда я видела, как мать с отцом ссорились, но дед всегда жалел невестку; слышала, как мать с отцом обзывают бабу нехорошими словами, но ведь то был непонятный мир взрослых. Я наблюдала их жизнь со своей колокольни и многого не понимала. И мне было неведомо, что под одной крышей вынужденно приходится жить совершенно разным людям, которые уже давно недолюбливают и даже ненавидят друг друга. Я потом часто вспоминала, как отец, придя вечером с работы, ложился на кровать и отворачивался к стенке, а мать мне поясняла: папа устал. А, может, он не только уставал, может, уже рисовал в мыслях свою новую жизнь и мозговал, как ее начать? Женившись на хромой, он точно так же хотел привести ее в родительский дом, но баба воспротивилась, твердо указав пасынку: ¬ — Если бы ты не сделал все втихаря, по-подлому, я бы тебя пустила. Но ты уехал, никому не сказав, что собираешься разводиться. А раз так, то идите и живите, где хотите. И они ушли жить к папиной второй сводной сестре, пока не получили квартиру. Вот так невесело все сложилось: после сдачи меня в детдом моя семья разбилась вдребезги и осколки разлетелись во все стороны. Даже в каком-то смысле можно сказать, что справедливость восторжествовала по отношению ко мне. Но мне от этого не радостно, а больно: разрушилась такая чудесная (как мне казалось), семья, камня на камне не осталось от прочного (как мне казалось) семейного дома… И в тот дом и дворик, мои родные места, я уже никогда не вернусь… Каждый год зима будет заметать дорогу снегом, будут вырастать сугробы и таять весной, а весенние ручьи будут замывать те предательские шаги отца, когда он выносил меня из родного дома, чтобы отвезти в казенный детский дом. Лишь спустя много лет меня все-таки вывезут за ограду этого казенного дома — чтобы перевезти в другое место, такое же казенное и еще более кошмарное… Детдомовское новогодие Наступил Новый 1963 год. Мой первый новогодний праздник вне дома... Хоть и тяжело от сознания, что этот славный праздник я провожу не дома, а в детдоме, но были и радостные моменты. И кое-что увидела впервые: как дети наряжались в маскарадные костюмы, девчонки танцевали танец снежинок, Дед Мороз с воспитателями раздавал подарки. А ночью представляла, что на будущий год я тоже буду в маскарадном костюме. А в это время мои родители выясняли отношения и разбегались кто куда, им было не до меня. И, наверно, поэтому мой ослабший организм стал понемногу крепнуть, и я стала постепенно оживать. Ведь мне ничто так не рвало душу как появление матери, а потом ее поспешный уход, а так как пока она не приезжала, я начала успокаиваться. Еще одно приятное изменение: няням надоело нас каждый раз по ночам будить, и теперь девчонки могли вставать в любое время в туалет, и мне это было удобно, не приходилось больше ждать до полуночи. Лишь Анна Степановна оставалась верна сама себе, но и ей вскоре пришлось сменить тактику. Господи, какая же это была злобная женщина! Помимо жесткого обхождения с детьми, она имела дурную привычку обсуждать тех, с кем работала. И когда в разговоре заходила речь о том, кто с кем дежурит в ночную смену, няни горестно вздыхали, если им доводилось работать с Анной Степановной Левшиной. Товарки за глаза называли ее исключительно по фамилии — Левшина. Когда дежурили другие няни в ночь, они разрешали нам посидеть после отбоя в коридоре, отдавали оставшийся с ужина хлеб и сами ужинали в нашей палате, попутно присматривая за нами и помогая, когда просили. Чаще всего я просилась к девчонкам на кровати, что стояли посередине, помню, сдвигали вместе три койки и ложились, прижавшись друг другу, — все ж не так одиноко, и уходило чувство брошенности. Были и среди девчонок «командирши», обожавшие помыкать другими. В частности, стриженная под овцу Надька любила выказывать свой командирский настрой. Однажды ночью я захотела в туалет, мне пришлось будить Нину, всегда помогавшую мне, и, видимо, мой голос разбудил и Надьку. — Чего орешь на всю палату, никому спать не даешь? Только посмей еще раз разбудить! — рыкнула она на меня, перепугав до смерти. После этого мне приходилось молча лежать и терпеть, пока кто-нибудь из девчонок не встанет по своей нужде и заодно не поможет мне. Я встретила весну и узнала слово «гроб» Наступившая весна отвоевывала все больше и больше прав. Это была моя первая весна в детдоме, и я уже понимала, что не последняя, на этом крохотном пяточке, где собрано столько горя и столько людских пороков, самое разнесчастное место на земле. Сюда как в пропасть свозили никому не нужных больных детей. И отгораживались от этой пропасти… У нас даже кладбище было свое, отдельное от поселкового, — детдомовских калек, будто какую-то заразу, хоронили отдельно. Больше всего умирали не в нашем, а в другом корпусе, — не дотягивали и до десяти лет. Чем отличались эти два корпуса? А вот чем: в нашем корпусе собрали детей мало-мальски соображающих и способных объясниться. А в другом корпусе — его в нашем обиходе именовали «корпус для слабеньких» или «слабый корпус» — разместили детей, неспособных передвигаться самостоятельно и с глубокой умственной отсталостью, проще говоря, лежачих идиотов. Можно представить, какой за ними был уход! И их никогда не выводили и не выносили гулять, даже не знаю, сколько человек обитало в том корпусе. В нашем же корпусе многие худо-бедно доживали до 18 лет, и достигших официального совершеннолетия отправляли во взрослые дома инвалидов или в психоневрологические интернаты, так называемые ПНИ, причем в ПНИ — куда чаще. Первую партию взрослых ребят из нашего корпуса увезли через полгода после моего прибытия. Я рано узнала слово «гроб» — слишком часто и близко их видела. Новые гробы привозили на открытом грузовике и сгружали в морг (при нашем детдоме имелся свой морг) в присутствии гуляющих детей. А гробы с покойниками отвозили на лошади за железнодорожную линию в негустой лесок — на обособленное детдомовское кладбище — и этот печальный последний путь мы тоже наблюдали. Мимо нашего детдома совсем близко проносились поезда, в освещенных окнах вагонов пассажирских поездов можно было из окна палаты различать пассажиров: мужчина или женщина, мальчик или девочка. Ох, как же долго эти поезда своим перестуком колес напоминали мне о родном доме… Летом на крыльце Как-то незаметно подоспело лето — и потеплело, и раззеленелось. Меня стали выносить на улицу. Сначала для неходячих стелили одеяло в небольшом садике на траве, но вскоре озорные ребятишки свалили оградку и вытоптали траву. Со временем кое у кого появились свои коляски, кто-то мог сидеть на лавочке, а для меня стали стелить одеяло на крыльце. Это крыльцо мне дорого обошлось впоследствии… В нашем корпусе было два выхода на улицу: один выход с довольно просторными сенцами, и у этих сеней было каменное крыльцо. Вот на это самое крыльцо меня и выносили: стелили тонюсенькое хлопчатобумажное одеяльце возле этих вечно закрытых дверей и клали на него. Все бы ничего, да одно ужасное обстоятельство меня вынуждало сползать с одеяла на холодные плиты крыльца. Дело в том, что в эти сенцы закрывали буйного пацана Витьку, и тот, сидя запертым с двух сторон, начинал изо всех сил колотить в двери, ведущие на крыльцо. И я, лежа под содрогающимися от его ударов дверьми, ужасно боялась, что они сорвутся с расшатанных петель и меня придавят. Как я ни уговаривала нянечек не стелить мне одеяло под самые двери, они упорно стлали именно на этом месте, успокаивая меня, что двери прикреплены прочно и Витька не сможет их сорвать, а вот если они меня положат на край, то я могу упасть с крыльца и убиться. Ничего не скажешь, железная логика у наших нянь! А то, что у меня застудятся все мои косточки и что впоследствии меня измучают болячки, приобретенные в раннем детстве, в том числе и на этом самом крыльце, что именно пребывание на камне даст толчок развитию остеохондроза, — это им и в голову не приходило. Вероятно, никто из них и предположить не мог, что жалкая уродинка, которую всю постоянно дергает и коверкает, доживет до зрелых лет. И уж точно никто не мог и помыслить, что она вырастет, выправится, добьется снятия неверного диагноза «олигофрения» и будет писать книжки для детей и публицистические статьи для взрослых, и ее примут в Союз писателей России... Но пока что была лишь маленькая калека, пытающаяся понять несправедливую жестокость взрослых. После ужина ребятня еще часок гуляла на улице, а я в это время уже лежала на своей кровати и смотрела на противоположную стену, которая в это время была зловеще красной от солнца, и наверно, от этого меня всю переполняла навалившаяся смертельная тоска. Я закрывала глаза и чувствовала, как она меня затягивает, и от этого становилось невыносимо. В такие минуты я старалась припомнить до мельчайших подробностей свою комнату дома, свой дворик, свою постель. Такой жуткой тоски я никогда не ощущала, пока жила дома. Это тянущее, выматывающее душу чувство развилось в мое первое детдомовское лето... Родичи навещают меня Однажды ночью я увидела во сне мать и чуть было не зарыдала на всю палату. Я не знала, что теперь каждый ее приезд буду чувствовать заранее, вот и в тот день она неожиданно приехала, и, швырнув свою сумку у моей койки, со слезами на глазах побежала к воспитателям. У меня застрял в горле комок, и я не понимала: радоваться мне маминому приезду или плакать, разделяя ее настроение? Из палаты я слышала как она, плача, что-то рассказывает Зинаиде Степановне. Прошло минут тридцать, я с нетерпением ждала, когда же мама подойдет ко мне. И вот наконец-то она зашла в палату с заплаканными глазами и, присев ко мне на кровать, отсутствующим взглядом уставилась в окно. — Мама, когда я домой поеду? — Не к месту видимо, задала я свой наболевший вопрос. — Никогда! — Резко ответила она, не отрывая взгляда от окна. Я заревела в голос: — Хочу домой! Не хочу больше здесь жить! — Куда я тебя возьму? Твой папка нас бросил, я теперь не живу в том доме, мы теперь с Ольгой живем у тёти Маши, — пояснила она и, наклонившись, стала что-то искать в сумке. Вытащив оттуда помидорку и положив ее на окно, она стала поспешно собираться домой. Я не поняла значения этого странного слова «бросить», в моем понимании слово «бросить» означало бросить какой-то предмет или отбросить что-то ненужное. Минуту помолчав, я внезапно все поняла и завыла, причем не по-детски, а по-бабьи. — Будешь так орать, я к тебе больше не приеду, — заругалась мама и выбежала из палаты. Ночью я опять горела в жару и металась по койке. Утром подошла няня, чтобы покормить меня и, видя, что я едва открываю глаза, только махнула рукой. *** Прошло недели две, и я снова стала оживать. Девчонки, прослышавшие, что мои родители разводятся, стали приставать с расспросами: — А что, твои родители дрались дома? Дурацкий вопрос. Честно сказать, я понятия не имела, что родители могут драться, но для многих девчонок было привычным делом видеть дерущихся родителей. И, когда я сказала, что папка никогда маму не бил, никто не поверил мне. — Почему же тогда они разошлись? — докучали девчонки. Они меня так доставали подобными вопросами, что однажды я не выдержала и соврала им, что папа в маму кидал тарелки, и после этого лживого признания они от меня отстали. *** В августе приехала Нянька (моя тётя Тамара) проведать меня. У нас как раз был мертвый час, и я спала, когда в палату вошла нянечка и разбудила меня: Тома, вставай, к тебе приехали. Я мигом проснулась и замерла, не зная, что мне делать: радоваться или снова реветь. Нянечка быстренько меня одела и вынесла на улицу, чтобы я своим ревом не подняла весь корпус. Причем натянула на меня домашнее платье одной из спящих девочек, сочтя мое недостаточно приглядным для показа родичам. — А вдруг она проснется, и меня потом ругать будет? — забеспокоилась я. — Не будет она ругаться, — заверила меня нянечка. — Я ей скажу, что это я взяла. Она вынесла меня на поляну, и тут я увидела свою милую Няньку. Я шмыгнула носом готовясь зареветь, но та меня опередила: — Если заревешь, я тебе не покажу, что привезла. Я вздохнула, но реветь не стала. Она поправила на мне воротничок и стала расспрашивать: почему я плачу? — Домой хочу… — пискнула я, с трудом сдерживая слезы. — А ты не плачь, вот я вернусь домой и скажу папе и дедушке, чтобы они приехали и взяли тебя домой, — заверила она. — Да еще надо коляску сделать, тебе же надо на чем-то сидеть. Я ей сразу поверила — наверное, потому что устала от неизменных отказов забрать меня и вопреки всему верила, что рано или поздно вернусь домой. Тут подошла нянечка и сказала: — Знаете, у нас на ее рост ничего нет из белья, вы бы привезли ей хоть пару платьиц. — Хорошо, я посмотрю дома. Если что-то осталось, передам, — пообещала она. После ее отъезда я уже не так жутко ревела. Нянька потом частенько навещала меня — и в детдоме, и в психоневрологическом интернате, — и своего сыну Серегу привозила: один раз еще маленького, а второй раз перед армией. До сих пор недоумеваю: почему Нянька тогда проявляла ко мне больше внимания, нежели отец с матерью? Любила как племяшку? Сочувствовала, лучше понимая меня из-за собственного увечья? Но почему так охладела ко мне потом? …Когда, через много-много лет, мы с ней оказались в одном Доме инвалидов в Новокузнецке, она отказалась меня кормить. А в ответ на мою просьбу хоть иногда приходить меня покормить моя милая тетушка отрезала как бритвой: «А ты будешь меня кормить?». Я могу простить ее резкость: скверно сложилась ее материнская судьба. Сын Сережа, мой двоюродный брат, стал крепко выпивать, жена от него ушла, их взрослая дочка не особо жалует отца… Щемящая боль пронзает сердце, когда мне рассказывают про вконец спившегося и опустившегося Сережу, моего товарища по детским играм… Наше безмятежное с Сережей детство… И такие разные жизненные дорожки… Потом здесь же, в Доме инвалидов, Нянька нашла себе мужчину, друга жизни, обрела личное счастье. Вот и славно, рада за нее. Жаль лишь пролитых из-за нее слез и горького подозрения, что ее внимание ко мне было выпендрежем перед нашей родней… *** Где-то в конце августа приехали отец с дедом и привезли мне коляску, которую отец смастерил сам. Не успел отец прикрутить к ней колеса, как в комнату, где мы сидели, ворвалась Левшина и двое ее напарниц по смене, — и началось… — Как же ты бесстыжими глазами на своего ребенка-калеку смотришь? Как тебе не совестно: такую красавицу-жену бросил с двумя детьми! — орала Левшина, уперев руки в бока. Я сидела на руках у деда и ела конфеты. Когда Левшина заорала на отца, дед вскочил и выбежал со мной в коридор. Так и просидели мы с ним в коридоре, пока отец не прикрутил колеса к коляске. Я притихла, словно испуганный зайчонок, и все больше вжималась в деда, замирая от оглушительного праведного крика Левшиной. Я поняла, что произошло что-то совсем нехорошее, и не решилась сказать деду про свое желание вернуться домой. И откуда только взялось такое чувство такта? Я чувствовала, как трясутся руки у деда. Когда коляска была готова, дед посадил меня в нее, закатил в палату, и они с отцом, не попрощавшись, уехали. Детдомовская школа Осень 1963 года принесла в наш детдом радикальные перемены. В сентябре нам выдали фланелевые платья, хотя и не новые, зато по размеру, и на мне стали чаще менять одежду. Но все равно я часто сидела в мокром платье, облитом супом или чаем, и одежда так прямо на мне иногда и высыхала. А позднее, когда мы сидели в игровой комнате, нам торжественно сообщили, что с новой недели мы будем учиться. В общем, почти как у нормальных детей: осенью начинается школа. К нам еще весной пришла работать воспитательницей пожилая женщина, Анна Ивановна Сутягина, бывшая школьная учительница, которая по состоянию здоровья не могла больше работать в поселковой школе. Полгода она присматривалась к нам и, видимо, строила планы по нашему развитию и согласовывала их с начальством. Фактически с ее приходом жизнь в детдоме начала заметно меняться. В нашем корпусе, включавшем пять палат, где мы спали, организовали три игровых комнаты, где должны были проходить также и учебные занятия. Нас разбили на три равночисленные группы (примерно по двадцать пять человек): старшая, средняя и младшая. А так как развитие у детдомовцев шло по-разному, то решили группировать не по возрасту, а по мышлению. Меня почему-то сразу взяли в старшую группу, хотя я не знала ни одной буквы. Из нашей группы четверо ребят раньше уже посещали школу. Двое глухонемых, Варя и Саша, обоим по пятнадцать лет, владели азбукой глухонемых. Воспитательница Зинаида Степановна без труда освоила эту немудреную азбуку. А вслед за ней — и я, даже выступала в качестве сурдопереводчика. Не знаю, какими ветрами или превратностями этих двух бедолаг занесло в наш специализированный детдом для больных детей? Варя была совершенно здорова физически, успела успешно закончить 8 классов, и, когда ее спрашивали, почему она сюда попала, она объясняла, что в той школе для глухонемых она поспорила с завучем и та отправила ее сюда. А вот как Саша попал в наше заведение, так и осталось тайной. Двое других детей были из вспомогательных школ — Надька, стриженная под овцу, и еще одна девчонка с точно таким же увечьем: правая рука и нога стянуты и с головой беда, как, впрочем, у большинства обитателей нашего детдома. Ох, как же неохота была другим воспитателям напрягать себя занятиями с такими, как мы! Тем более что у половины из них не было педагогического образования. Им проще было сгрудить нас всех в одной комнате, а самим сесть в проходе и заниматься своими делами, и только в туалет выпускать по одному, — и так до конца своей рабочей смены. Но пришла Анна Ивановна — и остальным воспитателям пришлось потрудиться на ниве нашего образования. В игровые комнаты завезли столы, стулья, на стену повесили черную доску — все как в обычном классе, только сначала нам давали не тетрадки, а лишь листочки из них. И на этих тетрадных листиках мы учились выводить крючочки и палочки. Многим это было в новинку, хотя большинство детей уже достигло подросткового возраста. Для меня самым интересным занятием стало изучать буквы. У Анны Ивановны буквы были нарисованы на квадратных картонках — она на них объясняла, что за буква и как звучит. Обходила всех сидящих за столами, потом показывала, тем, кто сидел на колясках. Нас, колясочников, было трое в группе: я и двое пацанов, Игорь и Вася. У Васи папа работал главбухом, а у Игоря родители трудились в Кемеровском собесе — поэтому к нему и к Игорю проявляли повышенное внимание. Впоследствии эти ребята, благодаря родителям, попадут в хорошие дома инвалидов. Не то, что я, обреченная скитаться по заведениям для психохроников… Воспитатели индивидуально подходили к ним, показывая буквы, спрашивая, запомнили они данную букву или нет. Меня же не баловали таким вниманием, и если мне не было видно, я начинала пищать со своего места: мне не видно! Воспитатели оборачивались и благодушно показывали мне пропущенную букву. Таким образом, я одновременно училась грамоте и демонстрировала свою напористость и умение постоять за себя. Так как обладала отличной памятью (хоть один дар природы!), то к Новому году знала все буквы. И возгордилась этим — шутка ли, 1964-й год встретила грамотным человеком. *** За зиму я окончательно освоила премудрости чтения, но вот книг, помогающих ребенку закреплять пройденное, в нашем детдоме не было. Но как бы взамен самостоятельному чтению Анна Ивановна Сутягина дала другое, может быть, даже более важное. Обычно после ужина, с семи до восьми часов, нас нечем было занять, а до конца смены воспитателей оставался еще целый час. Летом-то можно запускать всех на улицу, а зимой проблематично: весь час ушел бы на одевание-раздевание ребятишек, и никакой прогулки не получилось бы. Поэтому воспитатели использовали этот час — каждый по своему усмотрению. Большинство из них загоняли все группы в одну игровую комнату, сами кучкой садились в проходе и вели свои личные разговоры, а детки в это время, естественно, «стояли на ушах». В таком режиме и протекала большая часть нашего вечернего времени. А вот Анна Ивановна, которую за глаза называли «белой вороной» и презрительным «интеллигенция», в свою смену никогда не загоняла свою группу в общую игровую, а вместо этого собирала нас в нашей игровой и читала нам. Благодаря ей, я в семилетнем возрасте услышала первые художественные произведения — то были отрывки из «Кавказского пленника» Льва Толстого и «Детей подземелья» Владимира Короленко. Потрясенная судьбой детей подземелья, я ночью долго не могла уснуть, наверно, это был мой первый своеобразный урок на тему благородства и сострадания. А история Жилина и Костылина дала мне представление о жизнестойкости: в любой ситуации многое зависит от самого человека. Вот так, знакомясь со слуха с произведениями великих писателей, я познавала мир и усваивала, что нехорошо обижать человека, если он слабее тебя. А что такое безысходность, я узнала еще раньше — на себе испытала, не понаслышке. Великие писатели прививали мне культуру поведения человека, и у меня до сих пор остался от того детского времени девиз: «Живи сам и помоги жить другому». Я научилась садиться Весна 1964 года. Занятия по начальному обучению шли с января по апрель и доставляли мне огромное удовольствие. Мне так понравилось учиться! Жаль только, что уроков было куда меньше, чем мне хотелось. И все воспитатели, помимо подвижницы Сутягиной, вместо закрепления наших навыков по усвоению букв и слогов предпочитали необременительное для себя наше самостоятельное времяпрепровождение — играйте, дети, только нам не мешайте. Однажды, когда после ужина нас укладывали спать, я уже находилась на койке, но лежать мне ужасно не хотелось. Дело в том, что в этот день я безвылазно проторчала в неподвижной коляске. Поначалу коляску со мной ребятня катала туда-сюда — все ж развлечение: и им, и мне. Три воспитательницы и две няни собрали все группы в одной из игровых комнат, а сами сидели в проходе, ведя бесконечные беседы «за жизнь».. Одну из них, Веру Александровну, страшно нервировало, что мою коляску передвигают. Вряд ли ее беспокоил шум, создаваемый коляской: детские крики (а играющие ребятишки орали «хоть уши затыкай») его перекрывали. Эта Вера Александровна почему-то изначально относилась ко мне с антипатией, понять и объяснить которую не мог никто, включая ее саму. — Поставьте Черемнову возле стены! Не возите ее больше! — истошно завопила она на нас. Ребята испуганно повиновались, подвезли мою коляску к стене и тут же отошли подальше, боясь распалить гнев Веры Александровны. И получилось, что я оказалась лицом к стене. Почему воспитательницы не развернули меня лицом к обществу — непонятно: то ли не обратили внимания на такую мелочь, что девочка сидит, уткнувшись в стенку, то ли поленились, то ли не сочли нужным. Так я и просидела до самого обеда, слыша, как за моей спиной весело резвятся ребятишки и как оживленно квохчут сотрудницы, обсуждая семейные неурядицы и житейские перипетии. А я — в изоляции, передо мной — мертвая стена… Я на всю жизнь запомнила эту глухую белую стену. Сначала стена была лишь детской обидой, а потом превратилась в символ: стена — мой неумолимый враг, которого я должна победить. Сколько потом по жизни мне придется разбить таких глухих стен! А когда рухнет последняя стена, я растеряюсь от пустоты, и пройдет немало времени, прежде чем свыкнусь с новым для меня препятствием и новым врагом — пустотой. И до сих пор не знаю: что из них страшнее — стена или пустота? Ах, если бы у всех-всех инвалидов, подобных мне, с парализованными ногами и руками, была бы нормальная жизнь, если бы мы тоже могли видеть, слышать, ощущать, осязать окружающий мир и вливаться в его кипучую жизнь! И, главное, чтобы не мучил вопрос: окажут ли нам нужную бытовую помощь или не окажут? Что завтра ждет меня, физически беспомощную, если, не дай Бог, заболеет моя помощница Ольга — глухонемая соседка по комнате в моем нынешнем новокузнецком Доме инвалидов? Да я без Ольги в буквальном смысле останусь без рук! Какой бы знаменитой я ни стала, меня всегда и везде будет преследовать моя немощность — крест, который мне суждено нести до конца дней. И это так унизительно — жить в полной физической зависимости от других… Люди! Здоровые, нормальные, неувечные, некалечные, способные передвигаться на своих ногах и владеть своими руками! Дышите свободно и радуйтесь, что вы одарены немыслимым богатством — способностью к самостоятельному и самоконтролируемому движению! Считайте себя счастливыми, пока вы ни от кого не зависите! Не хотите считать, что здоровое самоуправляемое тело — счастье? Тогда хоть согласитесь, что это — основа для счастья. Но вернемся в тот памятный вечер моего детства. Проторчав весь день в стоящей коляске (после обеда меня тоже не катали), я елозила на кровати, отчаянно демонстрируя свой протест против наскучившей обездвиженности и надоевшей беспомощности, и вдруг, даже не осознавая того, дернулась и — о чудо! — сама села на попу, вцепившись пальцами в панцирную сетку, чтобы не упасть. Ну надо же: сколько меня не пыталась научить садиться дома, у меня не получалось, а в детдоме, где моим физическим развитием никто не занимался, всё получилось! Тут в палату вошла нянечка. Она не сразу заметила меня сидящей, а когда увидела, удивилась: — Тома, ты сидишь! Ты сама села? Я подтвердила, молча мотнув головой. Говорить не могла, потому что от радости в груди встал ком, и мне трудно было его выдохнуть. А когда нянечка, восхищенно поцокав языком и восторженно похвалив меня, вышла, я повернула голову к окну и увидела пассажирский поезд, рельсы, а вдали, за железнодорожной линией, лесок. Я всхлипнула — тоже от радости, что теперь сама могу до всего этого дотянуться взглядом, — и без сил повалилась на подушку, настолько меня вымотало мое первое самостоятельное усаживание. Моей жизни, конечно, не позавидуешь, но в тот весенний вечер я ликовала — ведь я научилась садиться. Зависть к тополю и муравьям После того, как я научилась самостоятельно садиться, я стала чаще сидеть на полу (в палате, в игровой, в коридоре), хотя плохо держала равновесие: то и дело падала. Иной раз так треснусь головенкой об пол, что искры сыплются из глаз. Однако на полу было куда вольготнее, нежели в коляске, хотя мне частенько влетало от нянь за сбитую ковровую дорожку: они стелили ее посередине коридора, а я своими непослушными ногами невольно сдвигала в сторону. Несмотря на эти неприятности, я все чаще и чаще просила, чтоб меня посадили на пол, и именно в коридоре, где больше простора. Взрослые недоумевали, ворчали, но сажали и терпеливо поправляли сдвинутый мною ковер. Видно, сами понимали, как нелепо выглядит этот ковер-половик при обшарпанных стенах и окнах без занавесок, непонятно, кому вообще пришло в голову постелить его. *** Еще когда весна 1964 года только-только зажурчала ручьями, в нашей детдомовской жизни наметились серьезные перемены. Затеяли строительство служебного здания из крупнопанельных блоков, потом там разместились кабинет директора, бухгалтерия и столовая. А в нашем корпусе решили провести паровое отопление: едва сошел снег, рабочие начали ставить батареи. К этому времени моя многострадальная коляска осталась совсем без колес, и ее водружали на два стула или ставили на пол, после чего помещали туда меня. А с приходом лета нас стали возить в баню — в телеге, запряженной лошадью. Как же я, измученная антисанитарией, возрадовалась полноценной помывке с мылом и мочалкой! Чисто вымытую кожу даже уже не хотелось сдирать… В начале весны девочек обрядили в легкие платьица, но летом решили обмундировать всех, без исключения, детдомовцев «под мальчиков»: выдали майки и нечто среднее между трусами и шортами. Иногда нас, колясочников, выносили на улицу и размещали в тени, отбрасываемой большим тополем, росшим возле нашего корпуса. Сидя вблизи дерева, я с любопытством разглядывала его морщинистый ствол, по которому ползали муравьи, жучки, паучки… Как вы думаете — о чем может думать восьмилетний ребенок, сидя в сломанной коляске? Ну так я вам поведаю те свои мысли, хотя не особо хочется об этом писать. Так вот: я завидовала тому дереву — что оно постоянно живет на улице, на воздухе, под солнцем, под луной, под ветерком, под дождиком, под снегом, и ему не надо, как нам, возвращаться в корпус, где обязательно обругают, а ночью будет мучить тоска. Тополиные ветви качались высоко над землей, и мне казалось, что они задевает облака. «Как хорошо ему здесь, его никто не обижает…» — завистливо думала я и тихонечко вздыхала. Потом у меня стал проявляться интерес ко всему, что, помимо человека, движется самостоятельно: животные, птицы, насекомые. Особенно меня привлекали насекомые — я же их видела совсем близко. Так интересно наблюдать, как туда-сюда снуют мелкие жучишки и паучишки. Как ползут божьи коровки — красные, оранжевые, желтые, с черными пятнышками-горошками на спине, — и внезапно, выпустив из-под плотных верхних крыльев полупрозрачные нижние и поджав лапки, взлетают. Как, расправив светлые крылышки, взмывают мотыльки. Как грациозно порхают разноцветные бабочки и опускаются на листок или травинку. Я смотрела на бойко семенящего муравья и представляла, что это я бегу, и будто своими глазами видела, как перед этим бегущим муравьишкой перемещаются все предметы. И муравьям я тоже завидовала — они передвигаются на своих ногах… «В умственном развитии отстает…» Незаметно летит теплое летнее время! Казалось бы, совсем недавно было все зеленым зелено, но вот уже видна осторожная поступь осени: тополь возле нашего корпуса постепенно окрашивается золотом, с каждым днем золотого в листве все больше и больше. В конце августа 1964 года к нам приехала важная областная медкомиссия с проверкой, и особенно дотошно проверяли нас, колясочников. Нескольких человек, у кого нормально работали руки, сразу же отправили в другой детдом. Дошла очередь и до меня. Меня раздели прямо в коляске: сняли платье, и я осталась в здоровенной, не по размеру, майке и без трусов — их на меня в тот день почему-то не надели. — Почему на тебе трусов нет? — Беря меня на руки, спросила Нина Степановна, главная медсестра (как вы помните, родная сестра зловредной Анны Степановны Левшиной). — Мне их не дали… — шмыгнула я носом. Мне и самой было неловко предстать в таком виде. Положив меня на стол, члены комиссии долго разглядывали мое тщедушное тельце и тихо переговаривались между собой. Кое-что из их разговора я расслышала, а кое о чем могла догадаться по их лицам. — Она что: обходится без трусов? Она хоть понимает, что так ходить стыдно? Она в состоянии сама себя обихаживать? — Нет, она себя не обихаживает, — отвечала Нина Степановна, — за ней ухаживают няни, кормят ее с ложки. Девочка очень слабая, постоянно плачет. В умственном развитии отстает, — добавила она убийственную фразу. Она заявила о моем умственном отставании, даже не поинтересовавшись, как прошло мое начальное обучение! А я меж тем успешно выучила все буквы и могла складывать слова и предложения. Я бы и дальше училась, учеба мне давалась легко и являлась лучшим из развлечений. Я уже возмечтала, что, помимо чтения и письма, будут обучать и другим предметам, зная, что есть всякие интересные науки. Но Нина Степановна своим безапелляционным утверждением перечеркнула все мое будущее, лишив меня права на образование. А для комиссии большего доказательства и не требовалось — заключение главной медсестры им показалось вполне достаточным. *** В октябре в нашем корпусе подключили паровое отопление и начали красить палаты и игровые комнаты, перебрасывая нас из одной комнаты в другую. Понятно, что никаких занятий не было — их невозможно проводить при ремонте. Занятия начались только после Нового года, в январе 1965-го. И оказалось, что никто из ребятишек ничегошеньки не помнил из пройденного, только я могла назвать выученные буквы, да еще те, кого привезли из вспомогательных школ. Материнское отвращение С горечью вспоминаю эпизод, связанный с посещением матери и определившей ее дальнейшее отношение ко мне, а мое к ней. Это случилось в октябре 1964 года, когда ремонт в нашем корпусе шел полным ходом, о возобновлении уроков чтения и речи было, погода хмурая, настроение паршивое… И я ждала маминого визита с особым трепетом. Однако мать в тот день повела себя весьма странно. Когда я попросилась к ней на руки, она вытащила меня из коляски и стала водить под руки, как, бывало, делала дома, но при этом старалась сама отодвинуться подальше и не касаться меня. А когда я попыталась прижаться к ней, резко отстранила и с укоризной спросила: — Тома, ты почему какаешь в штаны? — Я не какаю в штаны! Здесь за это ругают, — чуть не плача, стала оправдываться я, опешив от несправедливого обвинения. — Тогда почему у тебя все штаны в какашках? — брезгливо сморщилась она. — У нас бумажек нету… — виновато засопела я, разглядывая на себе женские панталоны, которые мне были так велики, что свисали ниже колен, заменяя рейтузы. Малоприятная картина: неухоженная малышка-инвалидка в коротком платьице, из-под которого чуть ли не до пяток свисают панталоны-рейтузы, и со сползшими чулками, волочащимися по полу. Могу представить, таким несуразным чучелом я выглядела! Да еще мать уведомили о моем умственном отставании и решении комиссии... Однако я не в состоянии понять свою мать Екатерину Ивановну. Она же поначалу любила меня! Сохранились трогательные фотографии, где я у нее на руках: привлекательная женщина и милая малышка с еще не выраженными признаками болезни. И, когда я жила дома, она была ласкова со мной и принимала меня такую, какая есть, уже с изрядными отклонениями в физическом развитии. И верила в мое выздоровление. И вот так, из-за болезни (не по моей вине!) можно разлюбить своего ребенка? И как можно столь легко согласиться с умственной отсталостью, «повешенной» мне медсестрой (не врачом! не педагогом!) и утвержденной небрежной комиссией, и не переговорить о моем дальнейшем обучении? Я же прожила дома почти семь лет, и мать могла объективно и по-матерински оценить мое умственное развитие! И почему эта женщина во время своих нечастых визитов в детдом, видя свое дитя всего в коросте и грязного, ни разу не попросила теплой воды, чтобы хоть чуть-чуть привести дитя в порядок. Ведь теплая вода всегда имелась в столовой, а обмыть меня можно было над тазом. Но она ни разу этого не сделала. Зато ей нравилось взахлеб рассказывать, что когда вернулась от меня домой, у нее на руках обнаружили чесотку и на две недели отпустили на больничный. Я ее заразила чесоткой — вот что главное. А не то, что от этой чесотки страдала я сама. Сейчас-то я понимаю, почему моя мать так себя вела. Тут все: и отвращение к запущенной детдомовке, в которую превратилась ее дочь, и тайное желание, чтобы этой неудачной дочери вообще не было бы в природе. Лучше бы, чтобы я поскорее умерла, чтобы исчезла эта несуразица: у такой красавицы такой уродец ребенок. И она вынуждена регулярно посещать этого уродца в детдоме — иначе осудят: мол, бросила, забыла. И она исправно приезжала ко мне раз в 3-4 месяца. Как потом выяснилось, наносила визиты мне исключительно тогда, когда ей было плохо, когда ссорилась с бывшей родней: со свекровью или с золовками. Бедная Екатерина Ивановна! Я ее не презираю, не осуждаю, а жалею: нелегко «из-под палки» таскаться в детдом и возиться с вызывающей отвращение дочкой-инвалидкой. И большое горе и грех для женщины — не любить человечка, которому дала жизнь, брезговать и тяготиться им. Приходили родичи и к другим детдомовцам, кто не сирота. Но не так вот, нехотя, формально, будто исполняя повинность, а с любовью и заботой. И в первую очередь смотрели — в чистоте ли ребенок. И не забывали приласкать и понежничать. Как же мне не хватало вот этой, хотя бы эпизодической, домашней любви, ласки, нежности и заботы! И потом, во взрослых стационарах, я наблюдала, как родители навещают своих уже выросших отпрысков-инвалидов, отданных на попечение государства не потому, что отринули от себя, желая отгородиться от убогого, а потому что сами не в состоянии ухаживать в должной мере, не справляются. То визиты любящих родных: заботятся, подкармливают, развлекают, нежничают. Когда, после моего многолетнего кочевья по кузбасским приютам для инвалидов-психохроников, я наконец добилась перевода в Новокузнецкий дом инвалидов № 2 общего типа, моя матушка объявилась вновь. Многие думают, что ее привлекла моя литературная слава. Однако она не хвалит мои писательские успехи. Мать постарела и подурнела, а я уже не считаю себя уродиной, недостойной существования, а принимаю такой, какая есть. Но она по-прежнему упорно видит диссонанс: красавица-мать и дочь-уродец. Тем не менее, исправно навещает меня, причем все в том же безотрадном ключе: формальном, унижающем и поучающем. Очень хочется сказать ей: ты больше не приходи ко мне… Кому пожаловаться? Солнышку! В декабре 1964 года нашу палату расформировали: взрослых девчонок оставили, а нас, малышей, перевели в соседнюю, и моя койка оказалась первой возле двери. Теперь больших ходячих девочек по вечерам няни заставляли мыть полы в игровых комнатах и в коридоре. За это их добавочно кормили — давали остатки от ужина и домашнюю снедь, приносимую нянями для себя и на угощение. Девчонки не забывали поделиться со мной: то крохотный кусочек сальца на ломтике хлеба принесут, то колечко соленого огурчика. Никто из нянь не был против, к тому же бутерброд и огурчик я могла съесть самостоятельно, никого не обременяя. Я иногда и сама просила у них хлеба. — Только не сори на пол, — говорили они, подавая мне кусок. И я, чтобы не насорить, клала хлеб на полотенце и начинала его грызть, придерживая рукой, потом только оставалось аккуратно вытряхнуть полотенце в ведро с отходами — и все, чисто. И только злобная Анна Степановна Левшина никак не могла смириться с этим. Доходило до истерики с ее стороны: если она замечала, что кто-то из девчонок идет в палату с хлебом в руках, то начинала орать: — Что, опять Черемновой хлеб несешь? Немедленно положи его обратно на стол! Иной раз девчонка вовсе не мне несла этот хлеб, но Левшина почему-то подозревала исключительно меня. Сейчас, много лет спустя, я думаю: а нормальной ли была Левшина? Такая ярко выраженная неадекватность свидетельствует о явных отклонениях в психике. И такую психически неуравновешенную женщину уж конечно не стоило подпускать к детям, тем более в качестве дежурной няни, которая обязана присматривать за детьми постоянно. Когда Левшина начинала вот так орать, я вздрагивала и инстинктивно поджимала ноги. Эта привычка, увы, закрепится и останется на всю жизнь, впоследствии мне так и не удастся перебороть непроизвольное поджимание ног при волнении. Однажды мое терпение иссякло. В ночь, когда работала Левшина, девчонки, как обычно, пошли мыть полы. Я, уже лежа в постели, услышала, как она приказывает девчонкам, чтобы те не таскали больше Черемновой хлеба — иначе она им не даст вкусного копченого сала. Я почувствовала внутри себя какой-то вязкий страх, в глазах защипало… А в следующую секунду во мне вскипела жгучая обида. Возле кровати на стуле у меня стояла эмалированная кружечка с водой, и я, обезумев от обиды, начала швырять эту кружечку на пол. Ходячая девочка, находившаяся рядом со мной, поднимала кружечку и ставила обратно, а я опять кидала ее. Я это проделала три раза, и Левшина, услышав звон бросаемой кружки, потребовала объяснений. Девочка вынуждена была выйти из палаты в коридор и объяснить, что это я кидаю кружку. Я слышала, как Левшина несколько минут молчала, видимо, осмысляя мой протест и перемалывая собственные эмоции, потом заорала, привизгивая: — Черемнова, если бросишь еще раз кружку, завтра пожалуюсь на тебя воспитателям! — Иди, жалуйся хоть Деду Морозу… — бессильно прошептала, давясь слезами. — А я пожалуюсь солнышку! — Подумала я мстительно, и от этой спасительной мысли мне полегчало. Телевизор В феврале 1965-го открылся административный корпус, который начали строить почти год назад: добротное здание из крупнопанельных блоков, где разместились директорский кабинет, бухгалтерия, столовая для ходячих, и, самое главное, клубная комната с телевизором — единственным на весь детдом. В марте, в честь Женского дня, в эту клубную комнату сзывали нашу ребятню — посмотреть только что купленный телевизор. В игровой, где мы в это время находились, стоял веселый гомон: договаривались, кто кому поможет добраться, обсуждали, какой фильм пойдет по программе. Узнав, что меня не берут, я расплакалась. Мне очень-очень хотелось посмотреть: что же это такое — телевизор? Дома у нас телевизора не было. Я, вконец исплакавшаяся, лишь обессилено хрюкала в подол, когда в игровую комнату вошла воспитательница Нелли Семеновна. — Тома, ты чего плачешь? — удивилась она. — Я тоже хочу к телевизору… смотреть кино… — призналась я ей, приостановив свое поросячье хрюканье. — Мы бы вас, колясников, взяли, да на улице еще холодно. И вдруг кто-нибудь из вас в туалет захочет, как тогда быть? — спросила она. — Нет, не захочу, я могу терпеть, я дотерплю до своей палаты, — заверещала я с затеплившейся в душе надеждой. — Ладно, что-нибудь придумаем, — пообещала Нелли Семеновна, погладив меня по голове. — Сейчас договорюсь с нянечками и попрошу пацанов, чтобы отнесли тебя в клуб. Няни плотно завернули меня в одеяло, нахлобучили на голову чью-то зимнюю шапку, два взрослых пацана подхватили мою «безногую» коляску и на руках притащили в клуб. Не буду описывать, в какой шок поверг меня телевизор — чудо техники 20-го века. Я не могла глаз отвести от голубоватого экрана с мелькавшими на нем фигурками. И от чрезмерного волнения и восторга впервые в жизни описалась в одеяло. И оказалась, что не я одна: многие ребятишки вернулись с просмотра кино мокрыми. Однако нас никто не отругал за это, и так как няня Левшина в тот вечер не работала (а уж она бы точно разразилась скандалом), обошлось без криков. Сегодня, когда телевизор стал повседневностью, и цветные модели вытеснили черно-белые, я с улыбкой вспоминаю тот первый в моей жизни телепросмотр. С улыбкой и с благодарностью тем, кто устроил мне этот праздник. Потом нас по выходным дням регулярно водили смотреть мультики по телевизору. Какая же это была радость! Особенно для колясочников. Сестренка Ольга Мои родичи выбрали удобный для себя вариант, в котором, увы, моим интересам и желаниям места не нашлось, хотя вроде бы меня не забывали и за меня радели. Формально радели. Соблюдали приличия: регулярно, хотя и нечасто (раз в 2–3 месяца), навещали меня в детдоме. А у меня от этого положение выходило похуже, нежели у тех, у кого и вправду не было никого из родителей. Сегодня статус, подобный моему, именуется «социальная сирота» — родители наличествуют и даже время от времени проявляются, но это мало что меняет в горькой сиротской жизни. А при подробном рассмотрении — нелепо и неловко. Приезжала — как бы ко мне — здоровая красивая женщина, торопливо вытаскивала из сумки что-то в бумажке, клала на мою тумбочку, быстренько говорила мне что-то поучительное, после чего поспешно уходила поболтать с воспитателями «о своем, о женском», затем уезжала, порой даже не заглянув ко мне попрощаться. А то, что мне плохо, ее не касалось. Я даже пожаловаться ей не смела. Меж тем я наблюдала, как к другим инвалидам приезжали родители, тетки, сестры, пусть не такие красивые, как моя мама Екатерина Ивановна, но они жалели свою незадавшуюся кровинушку, обихаживали, успевали утешить и приголубить, им можно было рассказать про свое житье-бытье, они выслушивали. А Екатерина Ивановна — как яркая бабочка — залетела, попорхала крылышками и улетела. Какое там выслушать! Лишней секунды подле меня не просидит! Даже глупо: проделать такой длинный путь (из Новокузнецка до Бочат два часа на электричке) и уделить мне считанные минуты. И часто повторялась такая сцена: мать, машинально подхватывала меня под руки и держала как куклу, и, не обращая ни малейшего внимания на мои неловкие телодвижения (я беспомощно крутилась туда-сюда) и отчаянные попытки поговорить с ней, болтала с сотрудницами детдома. А если я жаловалась, что устала так стоять, то сразу же сажала в коляску, не выслушивая моих объяснений и не пытаясь перехватить меня поудобнее. Мне также непонятна материна дружба с Анной Степановной Левшиной, которая откровенно меня ненавидела. Понятно, что моей матери она этого не высказывала, а может, наоборот, пела о своей неустанной заботе обо мне. Но я-то неоднократно жаловалась на Левшину, в надежде, что родная мамочка меня защитит! Как впоследствии выяснилось, сотрудницы все-таки проинформировали Екатерину Ивановну о левшинских злобных выпадах в адрес ее дочери Томы Черемновой, но мать выслушала это сквозь пальцы и никак не пресекла. И никогда не докучала персоналу расспросами обо мне — ей было все равно. Сдала своего больного неполноценного ребенка куда следует, исправно посещает — ну и все: свою родительскую миссию выполнила. Я стараюсь сгладить острые углы сложных отношений с моей родней, но до сих пор гложет обида, боль, ревность ко всем, кому моя мама уделяла внимание в ущерб мне, зависть к другим детдомовцам, чьи родичи проявляли себя намного лучше и нежнее. Вот еще один малоприятный случай из моей несладкой жизни. После долгих уговоров мама согласилась привезти ко мне в гости сестренку Ольгу. Приехали втроем: мать, ее младшая сестра Валентина (да, у меня было две тети Вали — по отцу и по матери) и четырехлетняя дочь Ольга. Я чрезвычайно соскучилась по своей маленькой сестренке — ведь она была частичкой моей счастливой домашней жизни. В тот день, когда они приехали, да еще с намерением остаться на ночь, я от избытка чувств радостно визжала, а когда в палату заходили няни или воспитатели, ликующе всех извещала: это моя сестренка Олечка! Ольга непонимающе таращила на всех глаза, она и на меня-то непонимающе смотрела, маленькая еще, да и подзабыла меня: ведь половину своих малышовых лет она прожила уже без меня. Ближе к вечеру всех разогнали по койкам, а в ночь как раз заступила на дежурство Анна Степановна Левшина. И мать побежала с ней посплетничать и показать свою младшенькую. Тетя Валя тоже устремилась за ними. Ребятня стала уже засыпать, когда они вернулись в палату. Мать радостно схватила Ольгу на руки, стала ее прижимать к себе, целовать и приговаривать, намеренно картавя: «Ты моя холёсая! Ты моя сладенькая девочка!». Я глаза выпучила от удивления — никогда не видела мать такой. По крайней мере, меня она так никогда не ласкала. — Кать, ты с малышкой ложись на свободную кровать, а Валя ляжет с Томкой, — распорядилась Анна Степановна, зашедшая в это время в палату. — Нет, мама ляжет со мной! — храбро воскликнула я. — Тише, не ори, ребятишек всех поднимешь на ноги! — рявкнула Левшина. — Мама ляжет со мной, — повторила я звенящим от страха голосом. — Тома, когда Ольга заснет, я к тебе приду. Мама придет к тебе, Томочка! — стали наперебой уговаривать меня мать и тетка. Но я, что называется, «уперлась рогом», дивясь собственной смелости. А потом мы с Ольгой начали реветь дуэтом и действительно подняли всех на уши. Я чувствовала свою правоту: ведь Ольга жила с матерью дома, а я тут, где мне плохо, и я редко вижу мать. К тому же мать спровоцировала меня на этот крик, когда тетешкала при мне Ольгу. Нас кое- как угомонили, и после этого раздосадованная Екатерина Ивановна уже не рискнула возить ко мне мою сестренку. Привезла она ее только, когда мне исполнилось восемнадцать лет. И нас с Ольгой уже ничего не связывало — чужими стали… Прошли годы и десятилетия. Моя сестра Ольга вышла замуж за парня из Бийска, родила сына Димку — декабрьский, как и я, родился 4 декабря 1989-го. В Бийске они все и проживают. Меня Ольга не забыла — иногда навещает. Но когда приезжает ко мне, то всегда держится поодаль, словно боится коснуться, дотронуться, будто я заразная. Да, Ольга действительно заразилась, только не от меня, а от нашей матери, — черствым и брезгливым отношением ко мне. И ее визиты в мой Дом инвалидов — сухая формалистика. И — словно в наказание! — в очередной раз инвалидность коснулась нашей семьи — где-то после 14 лет их брака муж Ольги стал инвалидом: работал газосварщиком на верхотуре, крепеж под ним обвалился, и он упал с 13-метровой высоты. Слава Богу, хоть ходит своими ногами, не сел в инвалидную коляску. У нас с Ольгой разница в возрасте — четыре года. Мы могли бы стать друзьями. Я же ее любила, и она со временем смогла бы полюбить меня. Но мы не стали близкими — усилиями Екатерины Ивановны, нарисовавшей между нами твердую границу и обозначив нас как уродинку-обузу (я) и любимую дочку (Ольга). Как каменную стену возвела! Бийск от Новокузнецка не так уж далеко. И мы с Ольгой могли бы встречаться более душевно и переписываться. Особенно сейчас, когда есть электронная почта. Сестры ведь! Но не сложилось… Через несколько лет после развода с моим отцом мать вышла замуж во второй раз. Она представила новому мужу Ольгу, и тот тут же признал ее дочкой, а про меня даже не сообщила, будто меня и нет вовсе. Постыдилась признаться, что вдобавок к здоровой-красивой дочери у нее имеется еще и дефектная-уродливая. Конечно, вскоре правда всплыла наружу, и факт моего существования никак не отразился на материной семейной жизни, но это гнусное подлое сокрытие меня от мужа бередит мне душу и по сей день. А мамину сестру, мою тетку Валентину, я тогда в детдоме в последний раз и видела — больше она меня не навещала. И уже не навестит — умерла в 2010 году. Наверное, надо упомянуть и вторую мою тетю Валю — сестру отца — она тоже вскоре умерла, в этом же 2010 году. А мамина старшая сестра Маша, приютившая их с Ольгой после развода, еще жива. Общаюсь ли я со своими родичами, не общаюсь ли — все равно скорблю, когда они покидают этот мир, и радуюсь, если живы-здоровы. И пусть подольше и получше живут те, кто остался… Пожар Страшный 1965 год... Первые полгода протекли нормально. Учебные занятия прошли с начального повторения: то есть все пришлось повторять заново, многие за большой перерыв между занятиями начисто забыли всю грамоту. Я же в первый год обучения немного путала мягкий знак с твердым, но во второй уже прочно запомнила, как пишется твердый, а как мягкий. В мае занятия закончились. Наступило тепло, и воспитатели облегченно вздохнули: теперь все смогут бывать на свежим воздухе: ходячие смогут гулять на речку Бочатку и купаться, а колясочников можно будет сажать либо под тополем, либо в прохладных сенях. И никому даже и мысль не приходила в голову, что вот тут, где собрано столько несчастных детей, где и без того хватает горя, может стрястись еще одна большая беда… И вскоре беда нагрянула. Это случилось в июле. Лето стояло сухое, без дождей. С самого утра нас выносили на улицу, а в тот ничем не приметный день меня взяла с собой погулять одна девчонка, сейчас не припомню ее имени. Она, подхватив меня под руки, увела за корпус — там была не вытоптанная трава и завалинка, где можно сидеть. Сначала мы с ней сидели вдвоем, она мне что-то говорила, а я, занятая своими невеселыми думами, вполуха ее слушала, поддакивая. Потом к нам присоединились пацаны и завели разговор. Я поначалу не вслушивалась и, только когда слово «пожар» влетело в мои уши, повернула к ним голову. У нас был безобидный парнишка Саня Смоличенко, вот он-то и говорил о каком-то пожаре. — Санька, где пожар? — поинтересовалась я. — Вот зддеееся будт гореть, — невнятно проговорил он, показывая на окно туалета. — Ты что такое мелешь? — возмутилась я и ошарашено уставилась на указываемое окно. — Как тут будет гореть? Тут же сразу увидят. — А вот будт! — прогнусавил он и ушел. Я про этот малоосмысленный разговор тут же забыла. А через день, где-то под вечер к часам к пяти, когда мы сидели в сенцах, спасаясь от жары, я услышала суматоху, поднявшуюся в корпусе. — Ох, горим, горим, девки! — кричали няни и воспитательницы, вбегая в сенцы. Нас выдернули из колясок и унесли на большое крыльцо новой конторы. И даже после этого я не вспомнила про Санькино предсказание пожара. Просидели мы на том крыльце недолго, к ужину нас водворили на свои места. Няня, кормившая меня ужином, поведала, что в туалете задымился угол подоконника, но его быстренько затушили. И тут я ничего не вспомнила! У меня будто кто стер в памяти тот разговор о предстоящем пожаре, или я просто не придала значения сбивчивым Санькиным словам. В ночь пришли дежурить няни Анна Степановна Левшина и тетя Аня Фудина, на руках которой я в буквальном смысле выросла, даже называла ее бабой, хотя та по возрасту в бабы не годилась — слишком молода. Мы все повылазили в коридор и наперебой стали выдавать свои версии происшествия в туалете. Ближе к десяти часам нас разогнали по койкам, корпус затих, а в два часа ночи девочка из старшей палаты, что по соседству с нашей, направилась в туалет, находившийся в конце коридора и, открыв дверь, заорала нечеловеческим голосом: весь туалет был объят огнем и огонь уже перекинулся на примыкавшую к нему игровую комнату. На ее крик прибежала Левшина, увидев, что дело нешуточное, отправила девчонку поднимать всех в палате, чтобы выбегали на улицу. Вторая нянечка, тетя Аня, побежала в «слабый корпус», где имелся телефон, — звонить пожарным. Левшина начала всех выгонять на улицу. Вы только представьте себе: поднять в два часа ночи сонных ребятишек! К тому же у нас было два выхода на улицу и получалось нелепо: она их в одну дверь выгоняет, а они в другую забегают обратно. Неразумные напуганные дети. Я спала сладким сном, и вдруг как будто меня кто-то толкнул: я почувствовала, что в палате что-то не так. Открыв глаза, увидела, что горит свет. Прислушалась: из коридора доносятся крики. Через минуту в палату заглянула Анна Степановна Левшина и скомандовала, чтобы все выбегали на улицу. — Дом горит! Все на улицу! — выкрикнула она. — Анна Степановна, возьмите меня, пожалуйста! — напомнила я о себе. Левшина непонимающе скользнула по мне взглядом и скрылась в коридоре. В палате уже никого не осталось, все выскочили, и только одна взрослая девчонка еще медлила, что-то разыскивая, кстати, ее тоже звали Томой. Меня осенила страшная мысль: вот Тома сейчас уйдет из палаты — и все, я останусь одна, и огонь доберется до меня, и я сгорю. — Том! Возьми меня… — попросилась я несмело. Дело в том, что эту Тому не всегда можно было уговорить что-то сделать, особенно когда она этого не хотела. Однако она безропотно взяла меня на руки и благополучно вынесла на улицу. Нас согнали на полянку возле конторы и посадили на траву. Все были в нижнем белье: в трусах и майках. Ночь, хоть и июль, а прохладно. И непонятно, от чего больше стучали зубы: от страха или от холода? Под утро стало совсем холодно. Я сидела и смотрела на пламя, зловеще плясавшее на крыше нашего корпуса. На полянке, озаренной пожаром, было светло как днем. Самый ближайший населенный пункт от нашего детдома — мордовский поселок. Как мордовцы попали в Кузбасс — не знаю. Может, сослали в сталинские времена, а может, приехали добровольно по призыву на работу. Но поселок существовал уже давно, и несколько человек оттуда работали в нашем детдоме. И, несмотря на ночь, они сразу, как увидели пламя и услышали крики, прибежали к нам. А зарево пожара было далеко видать, и вскоре приехали две пожарные машины, а потом запросили третью. В восемь часов утра нас всех загнали в клубную комнату административного корпуса, а в это время спешно убирали из соседних комнат бухгалтерию и освобождали кабинет директора, чтобы разместить детей (потом там сделают палаты для мальчиков). Со склада принесли матрасы и раскидали по полу, и мы, испереживавшиеся и обессиленные, сразу же повалились на них. Но я так и не смогла заснуть: закрывала глаза и тут же вскакивала, мне все казалось, что у меня тлеет угол матраса. В очередной раз подпрыгнув, я открыла глаза. Передо мной стояла воспитательница. — Тома, ты чего не спишь? — спросила она. — У меня матрас горит, — пожаловалась я. — Где? — испугалась воспитательница. Внимательно осмотрев матрас, она догадалась, что это меня мучают кошмары из-за потрясения. — Спи, у тебя нигде ничего не горит, — успокоила она и ушла. А я еще долго лежала с открытыми глазами — и вот тут-то вспомнила Санькины пророческие слова… В окна падали отблески пожара, туда-сюда ездили пожарные машины, а я все лежала и думала над Санькиными словами. Ведь он же точно показал на окно в туалете! Откуда он узнал про этот пожар? Если бы он был ясновидящим, то бы мог и другие вещи предсказать, однако ничего подобного он ни разу не выявил. Тогда откуда он мог знать о предстоящем пожаре? Вероятнее всего, пацанов кто-то заранее подбивал на это. Ведь в то время у нас директора уже не было: после Веры Михайловны на месте директора недолго побывали по очереди какие-то два мужика, которых выгнали, причем последний уволился за полмесяца до этого пожара. Место директора временно замещал завхоз, и со дня на день должен был приехать новый директор. А тут такой пожар! Но как я ни напрягала свои детские мозги, так ни до чего не додумалась. Исподволь меня начало клонить в сон, и я незаметно уснула. Утром меня разбудили голоса ребятишек. Я открыла глаза и увидела, что ребятня облепила окно, выходившее в сторону пожара. Они что-то бурно обсуждали, глядя на еще не до конца потушенный пожар. Шли уже вторые сутки этого кошмара. Нам, колясочникам, принесли завтрак, а ходячих повели в столовую, которую на скорую руку устроили через комнату от нас. От каши я отказалась (после тяжких переживаний и невеселых размышлений аппетит совсем пропал), выпила только чай. Через несколько минут стали возвращаться из столовой девчонки. Я попросила одну из них, Валю Задорожную, поднять меня, чтоб я смогла посмотреть в окно. Перед моими глазами предстал пылающий барак, теперь уже из окон валил черный дым, стояли пожарные машины, скорая помощь, а на земле возле дороги лежало что-то, закрытое белыми простынями. Я поинтересовалась: — А что это такое под простынями? — Ты что, не знаешь? Это сгоревшие пацаны, — возбужденно ответила Валя, крепко держа меня. — Кто? — Я онемела от ужаса. — Вадим, который сабли делал из палок и золотинок от конфет. И еще другие… — На Валины глаза навернулись слезы. — В той палате все пацаны сгорели, — грустно добавила она. — Но я же видела Вовку и Витьку из ихней палаты. И Вадик вроде бы был с ними… — сказала я неуверенно: мало ли что могло показаться в темени. Но вчера на поляне я точно видела, как Вовка радостно плясал на траве и орал: ура, мама, пожар! Валя в ответ пожала плечами. Да и откуда она могла знать наверняка, кто погиб, а кто уцелел. Вадим, Вадик — новенький, его совсем недавно привезли. Этот мальчик не был похож ни на кого из наших пацанов: на вид совершенно здоровый, руки-ноги нормальные и говорил чисто, только почему-то больше молчал. Почему его сдали в детдом, да еще специализированный? Известно только, что у него не было матери. И, видимо, мачеха постаралась избавиться от пасынка и отправить его куда подальше. И получилось, что отправила далеко-далеко — туда, откуда не возвращаются… *** После завтрака со склада стали приносить новые койки, и я старалась никому не мешать и не надоедала вопросами. Но когда новые спальни уже оборудовали, выбрала момент и рассказала воспитательнице Нине Павловне Камаевой про Санькины предсказания. — Не болтай, что попало, иначе отправим в «слабый» корпус, — зло прошипела Нина Павловна. На третьи сутки после пожара все еще чадившие бревна от сгоревшего корпуса раскатали бульдозером, чтобы не тлели, и пожар был ликвидирован окончательно. Как только пожарные уехали, ребята помчалась на пепелище и притащили оттуда мою обгоревшую коляску. А через неделю прибыла бригада строителей, и началось строительство нового здания для нас. И мы зажили своею жизнью дальше. А Саньку, продолжавшего болтать лишнее про пожар, в спешном порядке отправили во взрослый мужской психоневрологический интернат в Чугунаше. Теперь можно не бояться откровений «опасного» Саньки — он на другом конце Кемеровской области: Чугунаш в Таштагольском районе, а Бочаты в Беловском. Всего сгоревших пацанов было шестеро, все из одной палаты. Оттуда спаслись только самые старшие и крепкие — Вовка и Витька. Был в той палате мальчик (сейчас уже не помню его имени, помню только, что его привезли в наш детдом в один день с Вадиком), который, невзирая на запрет, курил. На того пацана все и свалили. Только как-то не вяжется — что же это: курящий пацан поджег в туалете окно и преспокойно отправился спать, зная заранее, что будет пожар? Конечно, тот малолетний курильщик был странным и неадекватным, но не настолько бестолковым, чтобы не понимать последствий поджога. Тем не менее, в отчете следственной группы написали, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с папиросой невменяемого подростка. И дело быстренько замяли, а нянечек оправдали тем, что их было в ту ночь всего лишь двое на весь детдом и невозможно было вдвоем, без подмоги, справиться с пожарной ситуацией и всех спасти. А потом — нигде и никогда — ни гу-гу про тот пожар. Будто не детдом сгорел, а бесхозный шалаш, и будто в пламени погибли не шестеро детей, а ничейный инвентарь. *** Не поддается никакой критике поведение няни Левшиной, намеренно оставившей меня на верную погибель в огне. Однако можно признать ее жестокую правоту: я же не работала, не мыла полы, да еще сама нуждалась в уходе — бесполезный балласт для персонала. И всплыл в памяти еще один рвущий душу эпизод. Однажды мы сидели в игровой. Воспитательницы не было, только Левшина. И в какой-то момент, слушая детский говорок вокруг, я громче всех засмеялась. И Левшина сразила меня фразой: «Вот Черемнова вырастет, и ее отправят в Кедровку, и будет она там жить до самой своей смерти». В Кедровке находился психоневрологический интернат, и я уже знала, что это гиблое место. Прибитая безрадостной перспективой, я сразу же замолкла и долго молчала. А в голове стучал один-единственный вопрос: а мама? моя мама Екатерина Ивановна? неужели она допустит, чтобы ее дочь отправили в Кедровку — навеки — как безнадежную? Смена начальства Мы понемногу отошли от потрясений, связанных с пожаром, и жизнь потекла своим чередом. Утром няни вставали и открывали двери, чтобы проветрить помещение: большая скученность в небольшом помещении, спертый воздух, все это можно понять. Но, когда ты спишь под простыней вместо одеяла, которых на складе не оказалось в запасе, то стучишь зубами от холода. А уж когда распахнут двери и ворвется сквозняк из коридора… Эти малоприятные ощущения останутся на всю жизнь — дрожь пробирает при одном вспоминании. Но как бы там ни было, жизнь постепенно вошла в свою колею. Приехал новый директор — Виль Михайлович Бикмаев, который будет вести детдом до самого моего отъезда. С его вступлением в должность жизнь в детдоме постепенно улучшится: и кормить станут лучше, и одевать, и быт наладят. Наш детдом войдет в число образцовых и займет второе место по Кемеровской области. Нам даже на праздник закупят школьные формы. Смешно, конечно: школьное обмундирование без школьного образования. Однако формам мы обрадуемся: они нас хоть чуточку приблизят к нормальному миру. В общем, в последующие годы появится много хорошего и ценного. Только главного — теплоты и душевности — так и не появится... А тогда, после того, как пожарники вытащили из горевшего корпуса мертвые тела сгоревших ребятишек, родственникам выслали скорбные сообщения и приглашения, чтобы приехали попрощаться с погибшими. Но приехали лишь к двоим, у остальных близких родичей не оказалось. Удивительно, но тело Вадика мачеха увезла домой, чтобы похоронить пасынка по-семейному, хотя администрация детдома на этом не настаивала. А остальных похоронили за казенный счет. И мою мать известили о пожаре и попросили привезти ватное одеяло, чтобы обшить мою обгоревшую коляску, ведь в детдоме таких одеял не было. Она приехала в сентябре, вручила мне коробку с леденцами и журнал «Веселые картинки», который выписывала для Ольги, и пошла, как всегда, поболтать с нянечками, спешившими поделиться с ней впечатлениями от случившегося пожара. Спустя годы нашлись сердобольные работницы, которые мне передали ее слова: — Лучше бы и она сгорела! — бухнула моя мать в сердцах, имея в виду меня. Я не сержусь на нее за эту фразу: во-первых, мало ли что ляпнет сгоряча эмоциональная женщина, а во-вторых, подтекстом было благостное «лучше бы она отмучалась». Да я и сама, когда подросла, частенько прокручивала в голове ту же мысль — ну почему я тогда не сгорела? — особенно когда становилось тяжело и духовно и физически. Зачем я продолжаю жить, если вся моя жизнь будет только такой: убогой, ненужной и всем в тягость? — мрачно думала я. У девчонок, что обитают со мной по соседству, есть хоть какая-то надежда выкарабкаться, они физически более-менее здоровы. А я? На что мне, калеке, надеяться? В десять лет, до моего подсознания исподволь, само собой, задолго до уведомления сердобольными бабоньками, уже стало доходить, что никому из родичей я не нужна, даже родной матери. Но острее это я почувствовала после ее очередного приезда. Она тогда осталась со мной ночевать. А возле меня в дни материного приезда всегда крутилась девчонка Ритка, у которой родителей не было вообще. Мать уже легла, когда я попросилась в туалет. — Валь, сноси Тому пописать, — попросила мать Ритку. Та согласилась, поискала ночной горшок и, не найдя его, понесла меня на улицу — я же была совсем легонькая. — Том, а у твоей матери теперь есть муж? — по дороге в туалет спросила Ритка, страсть как любившая разговоры про мужчин. — Не знаю… — ответила я и впервые задумалась: а действительно, если мать развелась с моим отцом, так вполне может выйти замуж за кого-нибудь другого. — Ты спроси у матери: ходит она с ним на танцы? — не унималась Ритка, уже твердо решившая, что мамин муж таки наличествует. Водворив меня на место, Ритка встала возле моей койки и стала ждать нашего разговора с матерью про мужа. Я стеснялась спрашивать мать про ее личную жизнь, но под незримым давлением Ритки все же спросила: — Мам, а у тебя есть муж? — Есть! — немного помолчав, ответила она, не открывая глаз. — А вы с ним ходите на танцы? — беззастенчиво встряла в наш разговор Ритка. — А как же? Ходим, конечно, — откровенно призналась мать. В тот момент я почувствовала, что мою душу будто чем-то тяжелым придавили, и после ее отъезда стала время от времени беспричинно плакать. Сижу, вроде никто ничего дурного не сказала, а я вдруг начинаю реветь. Даже воспитатели отметили: что-то у нас Томочка часто плакать стала. Слава богу, они не требовали объяснений, а я сама не желала открывать причину слез: мне тут так плохо, а у моей матери уже новый муж, с которым она беспечно ходит на танцы. Я мысленно укоряла мать и тут же ее оправдывала: ведь красивая здоровая женщина, имеет право на личное счастье. Вот так моя душа повзрослела. Но не огрубела. Мои первые книги С приходом зимы, в ноябре 1965-го, воспитатели постарались возобновить наши прерванные занятия, невзирая на отсутствие условий — игровые-то сгорели. Мы рассаживались прямо в палатах, в проходе между койками, нам нарезали наглядные пособия в виде бумажных цифр и букв, и при помощи вот таких нехитрых приспособлений учили счету и письму. «В тесноте, да не в обиде» — шутили они. Все бы хорошо, да только опять начали с самого начала! Но этому очередному повтору с азов была причина: старших ребят отправили во взрослые ПНИ — девушек в Кедровку, а парней в Чугунаш. Невеселые места, особенно Кедровка, однако отправляли с добрыми напутствиями и наилучшими пожеланиями. А к нам из Кемеровского сборного детдома привезли новеньких — моих ровесников и с нулевой подготовкой. Стало тяжеловато без помогавших мне девушек-нянечек, но радовало, что детдом пополнился новенькими. И весьма огорчало, что эти новенькие были несведущи ни в грамоте, ни в арифметике. На занятиях по устному счету я однажды поймала себя на том, что с трудом вспоминаю, какая цифра идет после пятнадцати. Хотя в шестилетнем возрасте, живя еще дома, прекрасно считала до двадцати. А тут третий год подряд топчемся на изучении счета до десяти и заново проходим одни и те же буквы. Мне стало страшно от мысли, что я становлюсь такой бестолковой и плохо соображающей. Я в прямом смысле этого слова отупевала! Однако литературная память у меня была отличная: стоило воспитателю прочитать какую-нибудь детскую книжку, написанную в стихах, и я эту книгу могла продекламировать без запинки от корки до корки, не заглядывая в нее. Всех это удивляло, меня хвалили и называли умницей. Я упивалась своим успехом и готова была на новые подвиги в учебе, но их от меня никто не требовал. И я, расслабленная похвалами, так неспешно и росла бы дальше: физически — в рамках моих природных возможностей, а интеллектуально — сообразно обстановке и низкому уровню учебных занятий. Но один случай — может, со стороны он и не покажется значительным, — перевернул мою дальнейшую жизнь. Однажды, когда занятия закончились и все разбежались кто куда, оставив меня одну в палате, я заметила забытую кем-то на моей постели сильно потрепанную книгу. Поначалу не обратила на нее внимания, но, когда завертелась на постели, стараясь расправить одеяло, мой взгляд зацепился за красные буквы названия на обложке. Я подтянула книгу к себе и прочла по складам: «За фронтом — фронт». А внизу — А.М. Садиленко. Сообразила, что это имя автора. От скуки наугад открыла книгу и начала складывать буквы в слова, а перевернув страницу, попала на диалог героев, и мне это показалось удивительным — надо же: будто разговаривают два человека, и все это на одном листке написано и так понятно. Ведь нам никто еще не объяснял, что на бумаге можно писать диалоги, монологи, описывать природу, и т. д. Я прочла впервые в жизни сразу, не отрываясь, пять страничек. После чего подняла голову и изумилась: как же быстро пролетело время — уже готовятся разносить обед. И мучившей меня скуки — как не бывало! Но мне не дали дочитать — вскоре книгу у меня отобрал Васька, пацан на коляске, когда я ему стала хвалиться, захлебываясь от восторга, что читаю интересную книгу о войне. — Дай посмоооттрреть! — заикаясь, попросил он. Я, не подозревая худого, попросила девочку передать ему книгу. А к вечеру послала ту же девочку забрать книгу обратно, но Васька не пожелал ее возвращать. — Я сам ее буду читать! — заорал он, выпучив глаза. Я чуть не заплакала от досады — так мне хотелось узнать: что же там еще написано? Мимо меня в это время проходила воспитательница. — Нина Павловна, у меня Васька книгу про войну забрал и не отдает! — пожаловалась я. — Вася мальчик, ему надо читать военные книжки, — поучительным тоном ответила Нина Павловна. — Пусть сначала он прочитает, а потом даст тебе. Васька в это время смотрел на меня и ехидно улыбался. Но когда через три дня я спросила у Васьки про книгу, он нагло заявил: — А я ее отдал — не помню кому. Плохая книжка. — Но там же так интересно написано, — чуть не плача, возмутилась я. — Сам не стал читать и мне не дал! — Ерунда! Ты еще мала, чтоб такие книжки читать, — назидательно изрек Васька, вытягиваясь в коляске и тараща на меня нахальные глаза. Мне ничего не оставалось, как ретироваться. А ночами, когда не спалось, я вспоминала ту загадочную книгу и тихо вздыхала. Я бы сумела разыскать ее в детдомовских палатах, если бы могла передвигаться самостоятельно, если бы ходила ногами… Забегая вперед, скажу, что той книгой мне, в конце концов, удалось завладеть: где-то через пару лет мне ее принес кто-то из ребят — уже совсем ветхую, зачитанную до дыр, но все страницы, к счастью, были целы. Я к тому времени уже читала бегло, без запинок, и быстро проглотила «За фронтом — фронт» Алексея Садиленко от корки до корки. Мое богатое воображение с завидной быстротой разворачивало перед глазами захватывающее действие... Символично, что первой книгой, которую я взяла в руки, была именно «За фронтом — фронт»: моя дальнейшая жизнь оказалась сплошным фронтом, вечной ареной военных действий, обороной и наступлением, отражением атак и укреплением тылов, — войной за мое полноценное существование, насколько это возможно при ДЦП. *** Спустя три месяца после истории с книгой Садиленко мать привезла донельзя истрепанный учебник «Родная речь». Кто-то из родственников закончил четвертый класс, учебник стал не нужен, но его неприлично было «передать по наследству», потому что он был до такой степени изодран, что все страницы существовали по отдельности, а твердая обложка была настолько обшарпана, что картинка «Три богатыря» Васнецова еле виднелась. А детдомовской инвалидке и драный сгодится, решила мать. После отъезда матери, чтобы заглушить накатившее чувство одиночества, я осторожно открыла наугад тот старенький учебник и прочла первые попавшиеся на глаза строчки: Уж побледнел закат румяный Над усыпленною землей, Дымятся синие туманы, И всходит месяц молодой. И в моих ушах вдруг зазвучала прекрасная музыка слов. Казалось бы, обычные слова, но сколько красоты и таинственности в этих строчках! Я стала читать дальше. Какими божественными красками, яркими и сочными, переливалось все прочитанное в моей головенке, благодаря моему неуемному воображению! Я сидела, согнувшись над стареньким учебником в три погибели, лишь бы разобрать хотя бы еще одну строчку в наступивших вечерних сумерках. — Тома! Тебе что, плохо? — спросила зашедшая нянечка в палату. Я не сразу вникла в смысл заданного мне вопроса. — Тома, ну-ка подними голову, — приказала она уже сердито. Я подняла голову и увидела наконец-то и вечерние сумерки в палате, и стоящую передо мной нянечку. — Нет, тетя Поля, мне вовсе не плохо, — ответила я. — Тогда почему сидишь, согнувшись? — спросила она. — Помочь тебе лечь? — Я читала, — важно молвила я. — Ну-ка, ложись, читательница! Завтра будет светло, и хоть целый день читай свою книжку, — незлобно проворчала она, укладывая меня. — Положите, пожалуйста, мою книжку под подушку, — попросила я ее. — Успокойся, под подушкой она, спи давай. — И накрыв меня одеялом, тетя Поля ушла. А я в тот незабываемый вечер засыпала счастливой — оттого, что у меня под подушкой лежит такая волшебная книжка, и что эта книжка моя собственная, и что ее не надо будет никому отдавать. Потом, годы спустя, я ретроспективно порадовалась, что первыми стихотворными строками, попавшимися мне на глаза, были строки из «Руслана и Людмилы» Пушкина. *** Робко, но уверенно протекало начало моего знакомства с мировой литературой, с которого, по сути, и началось формирование моей личности. Именно литература впоследствии поможет мне выстоять, не согнуться, не потерять человеческого достоинства. Именно книги откроют путь к знаниям, научат отличать добро от зла, приподнимут завесу над сокровенными человеческими чувствами и эмоциями, дадут оценку человеческим поступкам, покажут, что такое коварство и благородство. Книги наполнят мою жизнь смыслом. А по номерам книжных страниц я со временем научилась считать — сначала до ста, потом по нескольку сотен. А в уме — и до миллиона. Вот таким «книжным» образом я и восстановила забытый из-за отсутствия практики счет, и усовершенствовала свои математические навыки. Зовущие облака Ватное одеяло, которым обшили мою обгоревшую при пожаре коляску, в скором времени порвалось, железный остов пришел в полную негодность, и это жалкое средство передвижения пришлось выбросить. Заботливые ребята притащили мне младенческую коляску, которую, видимо, позаимствовали без спросу, потому что через три дня за ней пришла хозяйка, и коляску пришлось вернуть. А я надолго осталось без коляски и без возможности сидеть с опорой. Меня теперь кормили в лежачем положении (усаживать и прислонять к чему-либо было слишком хлопотно, а сама я спину не держала), все стекало на подушку, на белье, противно затекало под спину — особенно, когда няни небрежно держали тарелку и кое-как подносили мне ложку. Когда я впоследствии рассказывала про этот период своей невеселой жизни, то тут же раздавались вопросы: — Почему тебя кормили лежа? А почему не могли усадить с опорой и кормить сидя? Тем более что ты умела садиться самостоятельно. Поясню. Чтобы я устойчиво сидела на койке, мне надо было подложить под спину три-четыре подушки — они у нас были жиденькие, плоские. А где взять дополнительные подушки? Лишних не имелось. Можно было на время позаимствовать у моих соседок по палате, но те сразу бы возмутились и раскричались, и справедливо: я же могу запачкать их подушки. Да и подкладывать под меня подушки на каждый завтрак, обед и ужин, потом убирать и возвращать владелицам — все это требовало усилий, а няням было неохота со мной возиться. Однако вопросы не стихали: — А почему твоя мама не могла привезти тебе коляску — пусть не новую, а какую-нибудь из-под выросшего ребенка? Ведь ты же сидела не в специальной инвалидной, а в обычной детской прогулочной коляске. Неужели твоя мама не могла купить подержанную ношеную прогулочную коляску? Это же недорого! Или попросить у тех, кому она уже не нужна? То, что ребята притащили тебе младенческую коляску, это трогательно, но почему этого не сделали взрослые? То есть почему кто-нибудь из персонала не раздобыл тебе хоть какую старенькую коляску? Или тогда в Бочатах детские коляски были в диком дефиците? А вот на эти вопросы я затрудняюсь ответить. Разве что подтвержу последнее предположение — о дефиците. Да и то не потому, что знаю наверняка (откуда мне знать, что творилось во взрослом мире за стенами детдома?), а потому что мне так легче думать, это хоть как-то оправдывает и мою мать Екатерину Ивановну, и персонал детдома. А то уж стишком жестоко осознавать, что всем им было наплевать на меня, никому не нужную и всем осточертевшую калеку-уродинку, требующую индивидуального ухода… Справедливости ради отмечу, что сотрудницы детдома неоднократно обращались к моей матери с требованием обеспечить коляску для меня — любую. Но та неизменно парировала: «А Черемнов почему не сделает ей коляску?» — и отсылала к моему отцу. Почему тот бездействовал — не знаю. Зато детдомовская ребятня оказалась неравнодушной и деятельной — помогли, по-своему решили проблему, пусть глупо и нелепо, но сердечно и искренне. *** Мое «лежачее» житие продолжалось долго, очень долго — больше полутора лет… И учебные занятия в детдоме заглохли — месяц проведут и бросят. Так что все, что я могла, это читать и размышлять. Часто, недвижно лежа на постели, я с тоской смотрела в окно. С кровати можно было увидеть лишь небо да плывущие облака. Я наблюдала за ними и чуточку им завидовала. Облака равнодушно плыли за окном, ни за что не цепляясь, да им этого и не нужно было — на чем-то приостанавливаться… Как же мне хотелось очутиться на вольном облаке и уплыть с этого надоевшего места! Куда? Да хоть куда, лишь бы больше не видеть этих стен, где все так опостылело за годы моего пребывания в детдоме. Этим облакам там с высоты, наверное, даже и не различить крохотного местечка Бочаты, где стоит детдом для несчастных детей-инвалидов, думала я горько. А они знай себе плыли, не догадываясь, какой тоской наполняют мне душу и все зовут, зовут за собой! Эпидемия дизентерии Сентябрь 1967 года. Наше пребывание в тесном помещении дало свои горькие плоды — в детдоме вспыхнула дизентерия. Ночью у меня жутко разболелся живот. В ту ночную смену, к счастью, дежурила тетя Аня Фудина. Будь то А.С.Левшина — мне бы пришлось совсем туго. И не я одна в ту ночь маялась животом: еще у одного пацана и у ходячей девочки случилась та же беда. Утром нас троих изолировали в другое помещение. То был отдельно стоящий домик возле детдомовской ограды, в него нас и поселили. Нянечки приносили нам туда еду, сажали меня на горшок, поправляли постель и возвращались в корпус. Я целыми днями лежала на койке, иногда ходячая девчонка Надька сажала меня на деревянное крылечко и тут же убегала. Но мне совсем не было страшно одной, наоборот, я как-то встряхнулась и будто зажила другой жизнью, даже более интересной. В первые дни изоляции нас проверяли врачи, приехавшие из поселковой больницы, назначали лекарства, но быстро ретировались (боялись заразиться?). И каждую неделю брали пробы на анализ. Но остановить эпидемию не удалось — вскоре у половины детдомовских ребят обнаружилась дизентерия, и пришлось оборудовать еще несколько изоляторов. К этому времени уже сдали новый корпус, возведенный после пожара, но не всех туда сразу перевели — болеющие остались в изоляторах. С большим трудом справились с эпидемией дизентерии… Мое лечение подходило к концу, но тут ко мне прицепилась новая зараза — повторная чесотка (я ею уже однажды переболела в детдоме). Но, слава Богу, чешущиеся пятна выступили только на животе. Да и чесотка ли то была? Нечто подобное я видела в Прокопьевском ПНИ, когда меня туда перевели: такое могло произойти от нехватки витаминов, от общей ослабленности организма. Так тех девушек в Прокопьевском ПНИ со схожими симптомами не только мазью мазали, но и кварцем облучали, и таблетки давали, чего в нашем детдоме не было. О Господи, что же за детский дом у нас был? Ни удобств, ни условий, ни соблюдения санитарно-гигиенических норм, ни нормальной еды, ни своевременной медицинской помощи, ни толкового лечения, ни противопожарной безопасности! Я уж молчу про черствость и равнодушие… Потом, недельки через две, болеющих объединили в один изолятор. То есть тех, кто не болел, заселили в новый открывшийся корпус, а нас оставили долечиваться на старом месте. Вечером в окнах нового корпуса зажегся свет, и мне было отчетливо видно, как девчонки прыгают по кроватям. Создавалось впечатление, что им там до чертиков весело, а на самом деле их гоняли няни — чтобы они побыстрее определялись со своими местами. В это время в наш изолятор забежала тетя Аня Фудина. — Ой, Тома! Там не корпус, а дворец! — восторженно проинформировала она: — Светло, просторно, чисто, есть душ. Станем теперь тебя часто купать, и ты больше не будешь чесаться. Новый корпус Перевели нас, переболевших дизентерией, в новый чудо-корпус только тогда, когда все окончательно выздоровели. Мы еле-еле дождались этого радостного момента. И самое яркое воспоминание — как меня посадили под душ. Плескалась и хлюпалась там от души. Одно лишь огорчало: нас поселили на втором этаже, а на первом разместили ребят из «слабого» корпуса (похоже, в то время были большие поступления новеньких с большими отклонениями от нормы и с выраженной умственной отсталостью). И теперь меня кто-то должен был таскать на улицу, спуская со второго этажа на первый, а после прогулки поднимать по лестнице обратно. Меня практически так и таскали до самого моего отъезда из детдома: то кто-то из пацанов на руках спускал-поднимал меня, то девчонки под руки сводили по лестнице. Тетю Аню Фудину перевели от нас в «слабый» корпус. Я даже заплакала от такой потери — она добрая и душевная женщина. *** Едва открыли новый корпус, к нам приехала очередная выездная бригада врачей, предыдущая бригада приезжала еще в старый, сгоревший, барак (до сих пор помню, какой стыд я испытала тогда, представ перед врачами обряженной в здоровущую майку и без трусов). А эта бригада (уже другие врачи, доселе у нас не бывавшие) приехала, когда мне уже шел двенадцатый год и одежду выдавали нормальную. В бригаде были терапевт, хирург и дерматолог. К сожалению, не было ни окулиста, ни невропатолога, ни психиатра — врачей, участие которых было чрезвычайно важным для больных нашего типа. Терапевт осмотрела меня, сделала назначение, и я ошалела от счастья: она со мной разговаривала, причем по-дружески и как со взрослой. До этого врачи не вступали с нами в беседы — общались только с персоналом. — Я тебе назначу витаминные укольчики, и ты будешь чувствовать себя получше, — пообещала она. После отъезда врачей я три дня ждала этих уколов витаминов, а на четвертый спросила про них медсестру. — Какие тебе еще уколы витаминов? — Округлила глаза та. — Вам же дают на полдник витаминку, вот и хватит. Много витаминов тоже нельзя, — добавила она и торопливо отошла. А через несколько лет, добравшись до своей истории болезни, прочту запись того года: девочка здорова, чувствует себя хорошо, получает… и далее числятся уколы витаминов группы В, которые я так и не получила. *** Радость проживания в новом корпусе омрачил очередной некрасивый инцидент с А.С.Левшиной. Вечером после уборки ко мне в палату прибежала Людка — взрослеющая деваха из нашей же палаты. Она взялась ухаживать за мной и сегодня днем пообещала искупать меня под душем. — Мне Аннушка (так по-дружески она называла Левшину) разрешила после уборки помыться в душе, — радостно сообщила Людка. — А мне, наверно, не разрешит, — засомневалась я, заранее предвидя левшинские придирки и запреты. — Я поговорю с ней, может, разрешит — обнадежила Людка и убежала в коридор. А я стала прислушиваться к ее разговору с Левшиной. — Аннушка, там Томка просится помыться под душем, я ее пообещала сегодня помыть, — услышала я Людкин голос. — Она что, сегодня в шахте работала, что ей срочно надо в душ? — съехидничала Левшина и не дозволила. Я лежала на постели и гадала: ну почему мне нельзя сейчас помыться в душе? Ведь у меня этого простого бытового удовольствия — помыться — так мало в жизни! Ведь с точки зрения гигиены, человек должен каждый вечер принимать душ, к тому же я столько страдала кожными заболеваниями именно из-за того, что долго не мылась. Почему они ко мне так относятся? — недоумевала я. Оказывается, не у одной Левшиной были столь странные воззрения и узкие познания в области санитарии. Два месяца спустя после окончания медицинского училища к нам пришла работать новенькая медсестра Елена Петровна. Однажды, приняв нас у воспитателей, отдежуривших смену и отправившихся по домам, и покормив обедом, она милостиво разрешила старшей группе в «мертвый час» (все равно мало кто спит) посмотреть телевизор. Вот такое благодеяние со стороны медсестры. Были праздничные новогодние дни — наступил 1968-й. По телевизору как раз должна была идти музыкальная передача, которую я обожала. Так вот: сижу на полу и терпеливо жду, когда меня доставят к телевизору, девчонки о чем-то своем шепчутся, я их не тороплю. Заходит наша благодетельница и, малокультурно ткнув пальцем в мою сторону, командует: — А эту отнесите спать! Девчонки вступились за меня: — Это Тома, она все понимает, пусть посмотрит телевизор. Но Елена Петровна подхватила меня со спины под руки, причинив мне боль, приказала другим взять меня за ноги, вот таким изуверским способом притащила меня на кровать и, положив лицом вниз, ушла. Я, покряхтев, все же перевернулась на спину. У меня даже не возникло желания заплакать. Я пыталась переварить содеянное и тщетно искала слова, каковыми можно было все это объяснить. Но возможно ли в принципе это хоть как-то объяснить? Я тогда поняла лишь одно: у меня появился еще один недоброжелатель. К весне 1968 года у меня подросли волосенки на голове, и девчонки стали завязывать мне бантики. При виде этого невинного занятия у Елены Петровны почему-то возникло острое желание обкорнать меня, причем как можно короче. Однажды во время утреннего обхода, увидев меня в коридоре с бантиками, она ни с того ни сего заявила во всеуслышание: — Черемнову надо обстричь! Все, кто был в коридоре, с удивлением обернулись на меня. Я потупилась и опустила взгляд: ну зачем же, у меня же только-только начали отрастать волосы, я тоже хочу чувствовать себя девочкой, а не мальчиком… Елену Петровну никто не поддержал, и она тогда не стала повторять своего требования остричь. Зато потом я боялась попадаться ей на глаза — как ее смена, так обязательно раздается громогласное «Черемнову надо срочно обстричь!». Я не выдержала и рассказала воспитателю Людмиле Васильевне Суходольцевой. У персонала как раз в тот день намечалось собрание, и она вынесла мой вопрос на повестку дня, саркастически вопросив всех работников: надо ли обстригать Черемнову? Все заусмехались — постановка вопроса идиотическая. Вот уж воистину шекспировское: быть или не быть? Стричь или не стричь? Но тут, погасив улыбку, директор Виль Михайлович неожиданно встал: — Тамара уже большая девочка и сама решит, какую прическу ей делать. Давайте перейдем к другим вопросом. И, понизив голос, добавил: — Оставьте Черемнову в покое, ведь волосики для нее единственная радость… Сотрудницы с удовольствием рассказали мне про то собрание в подробностях и не без злорадства — многие не любили Елену Петровну. После директорского заступничества посрамленная Елена Петровна больше не повторяла своих нападок. Зато потом, когда она поехала сопровождать нас в Прокопьевский ПНИ, то отыгралась — пустила прощальную отравленную стрелу — когда нас из машины перенесли в приемный покой, Елена Петровна во всеуслышание заявила: «Вот эта пишет стихи, но стихи слабенькие, никуда не годятся». Однако никакой боли от этой уничижительной характеристики я не почувствовала — меня в тот час обуревали куда более сильные эмоции, касающиеся грядущего. *** Я пыталась найти ответ: почему ко мне такое отношение персонала? Я же никому ничего дурного не делаю и лишний раз стараюсь не беспокоить. Тогда ответ так и не сыскался. Но сегодня он известен и донельзя прост: я не такая как другие, моя необычная для других людей мимика и моторика движений отталкивает, а косоглазие усугубляет неприятное впечатление. Большинство людей в России на ползающего и не могущего контролировать свои движения человека смотрят брезгливо. Один совсем свежий пример: 14 декабря 2009 года я лежала в Новокузнецкой 29-й больнице, в неврологическом отделении. И мне там надо было пройти флюорографию. Моя помощница Ольга подвезла меня к дверям кабинета. Медсестра, принимавшая больных, закатила глаза и издала удивленное «о-о-о-о-о». Я промолчала. Меня перетащили на каталку, подкатили под рентгеновский аппарат. От необычных ощущений и тут же возникшего чувства неловкости (как всегда, мне неловко!), я разволновалась. — И зачем сюда таких везут? — громогласно возмутилась дежурная медсестра. — Ну вот как ей сделаешь снимки? Позовите врача, кто ее сюда направил, — распорядилась она. Наступила неловкая пауза, и я, столько лет молчавшая «в тряпочку», вдруг осмелела: — А вы возьмите и расстреляйте меня! — предложила я ей. — Меня не будет — и проблема исчезнет. Нет человека — нет проблемы. Чего же вы молчите? — Не знаю… — смешалась она и дернула плечом. — Я, между прочим, писательница, пишу для детей книжки, — отрекомендовалась я ей. — Слышь, что она говорит? — обратилась она к своей напарнице, придя в себя. Та вопросительно подняла голову. — Говорит, что детская писательница! — И, скривив рот в недоверчивой улыбке, покрутила пальцем у виска. И это был далеко не единственный случай. Еще один подобный: в Новокузнецком ортопедическом центре психолог (!) величественно восседала в своем врачебном кресле и в открытую, нагло, насмехалась надо мною и моими мыслительными способностями. И никто из присутствующих ее не оборвал, и никому до этого не было дела. Вот как можно это назвать и охарактеризовать? Простите, что забежала на много лет вперед. Захотелось показать, как у нас в России относятся к людям с физическими недостатками. У россиян еще не привита культура общения и обращения с инвалидами, понимание того, что инвалид — внутри такой же ЧЕЛОВЕК. Не спорю, трудно обходиться с больным, да еще страдающим сложным заболеванием, с серьезными нарушениями. Как у меня, например. Ноги не ходят, руки не подчиняются. Но так давайте вместе придумывать разные приспособления, чтобы легче жилось и нам, инвалидам (больше сможем сделать сами), и вам, здоровым (меньше ухода за нами). А то, когда я попадаю в наши больницы, у меня складывается впечатление, что с таким заболеванием, как у меня — ДЦП — больше никого и никогда здесь не бывает. Неужели из всех ДЦПшников (кстати, их по России зарегистрировано около миллиона) лишь я одна пользуюсь законным правом подкрепить свое драгоценное здоровьичко? Не слишком ли большое одолжение? И подобные эмоции испытывает множество инвалидов, потому как российские больницы и поликлиники в большинстве своем совершенно не приспособлены не только для инвалидов-колясочников, но даже для передвигающихся на костылях. *** Про инвалидные коляски расскажу отдельно. После того, как я пролежала без коляски более полутора лет, и никто палец о палец не ударил, чтобы найти выход из моего бедственного положения, сердобольная воспитательница Зинаида Степановна разыскала на местной помойке более-менее сносный остов от инвалидной коляски (только «скелет», колеса отсутствовали), вместо сидения прикрепила дощечку, а к остатку спинки приладила подушку. Вот в такой помойно-самодельной коляске я и сидела. Но это сооружение было настолько неудобным — напрягало спину, затекали ноги, — что большую часть времени я все равно проводила в кровати. В 1968 году у нас в детдоме появились первые инвалидные кресла-коляски заводского изготовления — аккуратной и красивой конструкции. Мне досталась желтенькая, с красным мягким сидением, с такой же спинкой и подлокотниками. Я была счастлива до небес и чуть не запрыгала от радости (представьте себе сидяче-лежачую прыгунью). Ведь в ожидании этой коляски я большую часть времени проводила на кровати. Коляска была механическая, рассчитанная на ручное управление: на больших колесах крепились обода для рук. Но я со своей единственной работающей рукой плохо управлялась, по корпусу еще туда-сюда, а на улице меня возили друзья-товарищи, в обязанности персонала это не входило. Сидеть в коляске было удобно и эстетично: ощущение — будто в роскошном новом платье. Однако роскошество длилось недолго. Через три дня наша группа собралась на речку, решили и меня прихватить. Едва вывезли на дорогу, ведущую к реке, — как у моей великолепной коляски вылезло из гнезда левое колесо вместе с осью. Ребята еле-еле дотащили меня с коляской до нашего корпуса. Коляску починили, но выезжать за ворота я уже не решалась. Позднее, в 1970-м, мой отец привез самодельную коляску — не такую красивую, зато надежную. И в этом же году мне выдали новую казенную коляску, так что у меня оказалось сразу две. Детдомовская ребятня уже не ломала их — и персонал не попустительствовал, и ребятня посерьезнела. Даже наоборот: повзрослевшие ребята подкачивали колеса, меняли ниппеля. И теперь у меня до конца моего пребывания в Бочатах всегда будут коляски, и казенные будут ежегодно менять. А домашняя коляска быстро обтрепалась, но выручала, когда выходила из строя казенная. Загадка местопребывания В моем многострадальном детстве и отрочестве, терпя все бесконечные тычки и плевки от разных людей, я и не предполагала, что это всего-навсего безобидные цветочки, и что очень скоро судьба-злодейка согнет меня в бараний рог. Я хорошо запомнила солнечный летний день 1969 года. Мне уже шел четырнадцатый год, подросток-девушка, даже какая-то миловидность появилась, во всяком случае, местные добряки отметили, что «Томка-то наша как расцвела» и особенно хвалили «бирюзовые глазищи», попутно поясняя, что молодая бирюза — вот такая светло-голубая, а потом темнеет. И именно в это время, когда я несколько успокоилась по поводу своей внешности и даже с удовлетворением поизучала себя в зеркале, судьба наносит мне удар под дых, да так, что я надолго задохнусь в безвыходности. Почему-то из всего происходящего все плохое не обходилось без участия моей матери. И в тот день все произошло тоже с ее подачи. Мы с ней сидели на улице, она уже собиралась идти на станцию, в это время к нам подошла медсестра (не помню уже ее имени-отчества), и они разговорилась. — Умненькая у вас девочка, письма сама читает. Кабы здоровая, какая помощница была бы. И красотулька, на вас похожа, — рассыпалась в комплиментах медсестра. — Кажется, у нее полиомиелит? Не помню, что у нее записано в истории болезни. — Нет, у нее умственная отсталость, — ответила мать, нисколечко не смущаясь того, что я сижу рядом и все слышу. — И в истории болезни это записано. — А… Вон оно что… — разочарованно протянула медсестра и ретировалась. Я почувствовала, что на меня будто тьма опустилась, хотя солнце светило по-прежнему. Я не услышала, что мне на прощание сказала мать. С того момента я замкнулась окончательно (и до этого была не очень-то общительна, беседам предпочитала чтение) и стала цепенеть и зажиматься при виде воспитательниц. Почему воспитательниц? Потому что они составляли наши характеристики, а в характеристику обязательно заносили диагнозы из истории болезни. И я решила узнать это наверняка — как и что вписывают воспитательницы в наши характеристики. По натуре я паникерша: чуть что не так, сразу начинаю паниковать, психовать и впадаю во внутреннюю истерику (внешне ничем не проявляемую), — а тут захотела спокойно все проверить, заглянув в свою историю болезни. Потихоньку, конечно, негласно. Попросить напрямую невозможно — все равно бы не дали. Выждала день, когда воспитатели в очередной раз обновляли наши характеристики, и решила заглянуть в свою историю болезни. До этого малоприятного разговора матери с медсестрой я о своей характеристике даже не задумывалась. Итак, всю нашу группу посадили в игровой комнате, воспитательница раздала карандаши и бумагу для рисования, а сама села писать. Я шепнула Любе Лабышевой (девушка, которая за мной ухаживала до самого моего отъезда из детдома), чтобы она незаметно принесла мне мою историю болезни. Пока воспитательница оформляла чью-то характеристику, Любка втихаря притащила мне папку с моей историей болезни. Отрыв папку, я опешила. Да, помимо пресловутого «необратимого поражения ЦНС», стоит «припаянный» мне диагноз «олигофрения в стадии дебильности» с воспитательским добавлением «примитивное мышление», впрочем, с этим я уже смирилась. Меня другое сбило с толку — указание моего местопребывания. Я же великолепно помню, как меня в шестилетнем возрасте привезли в эти самые Бочаты, а до этого я жила дома в Новокузнецке. Тогда почему в моей истории болезни на первой странице черным по белому выведен совершенно другой детдом моего пребывания — «Чугунашский детский дом»!? Насколько мне известно, в Чугунаше имеется взрослый мужской ПНИ. Даже если там имеется и детдом в придачу, то почему же тогда я живу не в нем, а здесь в Бочатах, и уже семь лет? – озадачилась я. Можно предположить что заполнявший эту графу ошибся, описался — ведь Чугушский ПНИ в нашем обиходе фигурирует часто: туда отправляют подросших парней. Но ведь воспитатели, регулярно просматривающие историю болезни, не могли не заметить несоответствие — они обязательно пролистывают первую страницу, когда заполняют характеристики. Или им все по фигу? Если они на неверные диагнозы касательно моего умственного развития смотрят сквозь пальцы, так и на это тоже: какая разница, к какому детдому приписана Тома Черемнова? Но все-таки хотелось бы получить объяснение — почему, проживая в Бочатах, я числюсь в Чугунаше? Если этому в принципе можно найти хоть какое-то объяснение. Мне судьба давала в руки отличный шанс возмутиться. Но я сдрейфила, струсила, испугалась… Наверное, читатели недоумевает: а чего испугалась-то? Взрослая барышня, без малого 14 лет, имеет право знать содержание своей истории болезни, тем более первой страницы. Подошла бы к воспитательнице да спросила бы в лоб: а почему я числюсь в Чугунашском детском доме? Да еще уточнила бы: а в Чугунаше хоть есть детдом или только мужской ПНИ? Да еще съязвила бы: или вы меня сразу приписали к мужскому ПНИ, как раньше дворянских отпрысков с малолетства записывали в военный полк? Отвечаю читателям и поясняю ситуацию. Я замкнулась в разговорах и не осмеливалась донимать воспитательниц по поводу их дежурных характеристик после того исторического для меня разговора матери с медсестрой вот почему: я страшилась своего будущего, догадывалась, куда попаду после совершеннолетия со своими малоутешительными диагнозами... Впрочем, однажды осмелела и таки заикнулась персоналу об этом самом: о моих диагнозах и перспективах. Так меня чуть ли не пытали: откуда я это знаю — про диагнозы и планы в отношении меня? Если бы я выдала Любу, тайком принесшую мне мою папку с документами, — ее бы непременно наказали. А наказывали девочек, даже уже взрослых, издевательски: раздевали до нижнего белья, забирали матрас, одеяло, оставляли простыню да подушку — лежи на голой сетке, пока не одумаешься. И Любу эта участь не миновала бы. Так что я сочла за благо в дальнейшем помалкивать. Так и осталось загадкой официальное местопребывание Томы Черемновой… Я взрослею В 1970 году в нашем детдоме построили еще один корпус, такой же, как выстроенный после пожара, в два этажа, сходной планировки, но, к сожалению, с бытовыми условиями похуже: туалеты, умывальники и душевые только на первом этаже. Нас, девчонок, поселили на втором этаже, где только палаты и игровые комнаты. У меня-то под койкой свой горшок, а бедным девчонкам приходилось бегать на первый этаж за всем, связанным с водой: и в туалет, и гигиену соблюсти и даже воды попить. С гигиеной — просто кошмар! Особенно в те проблемные женские дни, которые нынче деликатно именуют критическими. Гигиенических пакетов и ваты (современных впитывающих прокладок и тампаксов тогда и в помине не было) нам не выдавали, а вместо этого посылали в прачечную, где в качестве прокладок можно было получить выстиранные тряпочки. После использования по назначению воспитатели и нянечки заставляли их тут же выбрасывать, держать в палатах нельзя, элементарное соблюдение санитарных норм. А прачки орали: где мы вам столько тряпок наберем? Тяжелее всего приходилось мне, если кто-то из девчонок постирает мне тряпочки, то хорошо, но чаще мне их приходилось выкидывать и клянчить новые. Не приведи Господь вам, милые девушки, пережить такое унижение! *** В том же 1970 году полностью обновился состав нашей группы, из старожилов остались лишь я да Вася. Завезли много ребят из вспомогательных школ — тех, что не справлялись с учебной программой, — и продолжали с ними заниматься, примерно придерживаясь программы тех школ. Вот тут-то мне и пригодилось то, что я по страницам книг самостоятельно научилась считать. Примеры с иксами и игреками у меня тоже не вызвали затруднений — та же арифметика, только надо найти спрятанные числа. Я легко справлялась: воспитательница пишет на доске задание, я тут же следом за ней решаю. Только меня приходилось одергивать, когда в математическом рвении я выдавала решение вслух. «Тома, не подсказывай! Решай в уме». Мне было тяжеловато от того, что я не могла сама писать руками, а в остальном ни в чем не уступала другим ученикам. Однажды задали пример, когда из одного десятка в другой надо было перенести единицу, пример непростой, когда дело имеешь с несколькими десятками. Я подумала-подумала и решила верно. Напротив меня сидела девочка, которой это было непонятно. Хотя она закончила семь классов вспомогательной школы и прекрасно знала таблицу умножения, а вот такой пример решить никак не могла, несмотря на многократные объяснения воспитателя. А когда я ей объяснила по-своему, девочка справилась. Меня похвалили: «Ну ты, Тома, прям учительница!» — и после этого случая частенько просили позаниматься с теми, кто «не тянул». Наверное, читателям смешно читать про столь примитивные занятия математикой в 14-15 лет, но не забывайте, что дело происходит в специализированном детском доме. Да если бы мне дали возможность учить математику в полном объеме нормальной школы! Но такой возможности мне никто не предоставил. Между мною и настоящей математикой воздвигли высоченную стену из моих диагнозов и оценок умственного развития… *** Как-то мы с Васькой сидели в коридоре, и к нему подошла новенькая воспитательница Валентина Федоровна, совсем молоденькая девушка, тогда еще незамужняя. — Ну что, Вася, прочитал книгу? — спросила она приветливо. — Ага, прочитал, спасибо, — бойко ответил Васька. — Может, еще принести? — предложила Валентина Федоровна. — Ну принесите — согласился Васька. — Снова такую же? Про любовь?— уточнила она. Не успел Васька определиться с выбором, как в разговор встряла я. — А мне тоже что-нибудь принесите почитать, — попросила застенчиво. — Хорошо, и тебе принесу, — улыбнулась она. На следующий день девчонки передали мне от нее книгу Георгия Егорова «Солона ты, земля». Прекрасная книга самобытного алтайского писателя, серьезная и правдивая. Забегая вперед, скажу, что потом эту книгу несколько раз переиздавали, но ее продолжение «На земле живущим» на много лет положили под сукно из цензурных соображений, испугавшись чрезмерной правдивости, и издали лишь в перестроечную эпоху. А у меня именно с книги «Солона ты, земля», этого учебника жизни, внимательно проштудированного мною с начала до конца, началось познание взрослого мира. *** С Валентиной Федоровной мы подружились, хотя открыто ничем этого не выказывали — зачем «дразнить гусей»? Я не входила в круг ее служебных обязанностей, она вела младшую группу, но регулярно забегала ко мне, интересовалась моими делами, приносила книги, и я была счастлива ее вниманием. Благодаря ей я прочла книгу кузбасского писателя Владимира Ворошилова «Солнце продолжает светить» — о шахтере Сергее Томилове, который ослеп после аварии в шахте, но нашел в себе силы жить дальше, адаптировался к своей незрячести и вернулся в рабочие ряды: стал директором общества слепых, обрел семью. Но это было «не мое», про случаи подобные моему (ДЦП), книг тогда еще не писали. Потом они появятся, например, замечательная книга Валерия Завьялова «И невозможное возможно», изданная в 1977 году, но не будут очень популярными. Зато книга «Белое на черном» Рубена Гальего, изданная в 2003 году, обретет широкую известность и даже будет инсценирована. В мое же время героическим примером был Николай Островский — ослепший и обездвиженный человек продолжал трудиться: надиктовывал книги… Про него показывали фильм, и после просмотра последней серии со мной, уже вроде бы научившейся сдерживать эмоции, случилась такая истерика, что воспитательнице Нине Павловне пришлось вывезти меня из зала в коридор, чтобы я успокоилась. А без книги в руках меня уже никто в детдоме не видел. Я даже ухитрялась читать по ночам: моя кровать стояла напротив стеклянной двери, через которую проникал свет из коридора, горевший всю ночь. После таких ночных читок сильно болела голова, и эту головную боль усугубляли еще и переживания по поводу прочитанного. Вдобавок обострились гиперкинезы — когда в тихий час или ночью я начинала засыпать, то голова у меня оттягивалась назад и принимала неестественное положение. Теперь-то я понимаю, что надо было срочно принимать меры — это можно было остановить и откорректировать. Но тогда никого из детдомовских работников это не насторожило. А мне впоследствии откликнулось здорово — развилась спастическая кривошея, замучили боли в области шейных позвонков, ухудшилось зрение. *** Наверное, многие думают: ну стоило ли так переживать по поводу диагноза? Подумаешь, липовый диагноз «олигофрения» влепили, сколько людей с подобным диагнозом, не соответствующим действительности, живут и так не убиваются. Я неоднократно слышала утешения типа: ну записана в твоей медицинской карте умственная отсталость, а на деле-то ты умница-разумница, вот и живи и пользуйся своими блестящими мозгами. Конечно, можно проигнорировать неправильный диагноз, но я ведь была полностью зависимым человеком и не получила никакого регулярного образования, за плечами нет даже нормальной начальной школы, а на руках — свидетельства о получении хоть какого образования. Даже характеристику воспитателей, упоминающую мое обучение, в историю болезни, с которой меня переводили из детдома в ПНИ, не вложили. Но это как раз правильно: разве можно назвать образованием то, что нашу группу шесть лет учили считать до десяти, а потом сделали прыжок на иксы и игреки? Смех да и только: из начатков арифметики сразу в алгебру. Как африканские страны: из первобытнообщинного строя — сразу в капитализм. Так что я и по сей день формально числюсь безграмотной, не умеющей ни читать, ни писать. Сегодня отсутствие аттестата и диплома меня уже не так смущает, а в анкетной графе «образование» ставлю «самообразование». Но тогда… Тогда я не видела никаких перспектив для себя, впереди маячила лишь кромешная тьма, в которой можно деградировать, тонуть с головой, идти ко дну... Ночами я до зубовного скрежета муссировала один и тот же вопрос: ну почему с моим физическим недугом человек обязательно должен быть умственно неполноценным? В чем выражается мое отставание от других детей? Да, я не такая как все, с больными руками и ногами, но ведь нормально мыслю и трезво рассуждаю, что указывает на сохранный интеллект. Все, что мне оставалось, это попытаться доказать сохранность своего интеллекта и отсутствие ментальных нарушений. И я начала хвататься за все школьные учебники, какие только попадались. Даже выпросила у матери учебник по физике за шестой класс: после пререканий мать его все-таки купила, благо они тогда были дешевые. Я впилась в этот учебник, читала его как приключенческую книгу. Без труда поняла закон Архимеда: погруженное в воду тело вытесняет столько же воды, сколько весит само. И что в воде существует три силы: если тело легче плотности воды, то оно будет плавать на поверхности, если тяжелее, то утонет, и еще есть выталкивающая сила воды. Мудрый грек Архимед в 3-м веке до нашей эры при помощи своего закона смог определить точно, из чистого ли золота сделана корона у царя. Не составил для меня трудности и всемирный закон Ньютона о земном притяжении: любое тело, подброшенное вверх, непременно упадет на землю. А знаменитая теория относительности Эйнштейна показалась мне совсем простой и я тут же примерила ее на себя: сидя в коляске, я нахожусь в состоянии покоя относительно коляски, а относительно дороги, по которой везут мою коляску, я нахожусь в состоянии движения. Впоследствии я напишу сказку «Чья луна упала в речку», где разъясню теорию относительности детям на примере луны и догоняющих ее щенка и котенка. Наверное, читатели недоумевают: так в чем же дело? имея самостоятельно усвоенные знания, в том числе и по физике, надо было действовать, а не ждать милости в области образования и не маяться в ПНИ, куда меня впоследствии органы соцзащиты. А дело в том, дорогие мои читатели, что изучая школьные дисциплины самостоятельно (в том числе все эти законы физики), я все же не была уверена, что правильно их понимаю, а выставить это напоказ не решалась, так как уже имела горький опыт. Однажды одна из медсестер втерлась ко мне в доверие и спросила: интересна ли мне учебная программа, по которой нас учат. И я, простодушная, искренне призналась, что мне это все неинтересно, что я бы хотела получить более углубленные знания. А она предательски передала наш разговор воспитателям — и те меня тогда чуть не съели. И долго еще издевательски высмеивали: умственно отсталая Черемнова хочет углубленных знаний! Ха-ха-ха! Любаша Хочу описать еще один немаловажный эпизод из нашей жизни и посвятить его Любаше Лабышевой, которая три года подряд бессменно ухаживала за мной в детдоме. Любу тоже привезли из родного дома. Она страдала эпилепсией. Закончила четыре класса общеобразовательной школы, но учиться дальше не позволило здоровье: частые приступы эпилепсии срывали уроки в классе — и ее освободили от школы совсем. Мы с ней как-то незаметно сдружились. Странноватая девочка, но незлобивая и отзывчивая. Она хорошо писала под мою диктовку: письма матери (несмотря на сложные отношения, я исправно писала ей письма) и продукты стихосложения (называть свою поэтическую стряпню стихами не осмеливаюсь). Люба одевала меня, сажала на коляску, иногда помогала стирать. Но уж очень утомляла ее излюбленная привычка ежедневно пересказывать одно и то же: сядет рядом и заведет вчерашний или позавчерашний рассказ. И ведь не потому, что начисто лишена памяти, а явно нарочно. Однажды, читая книгу, я не выдержала ее трескотни и сорвалась: — Любка, умолкни и отвали! Сколько можно перетирать одно и то же? — Больше не буду, — подчинилась она. — Но можно я с тобой посижу? — Сиди, — разрешила я милостиво, мучаясь раскаянием, что прикрикнула на нее. Любка села на подножку моей коляски, и минуты не прошло, как опять застрекотала. Ну что с ней поделаешь? Мы ее за эту привычку трещать под ухом прозвали ее сорокой. Сидит сорока, трещит без умолку, а я в это время изучаю по «Хрестоматии» стихотворные размеры: ямб, хорей, анапест, амфибрахий, дактиль. Но под Любкино стрекотанье ничегошеньки не могу понять из прочитанного, а ухо ловит многократные повторы озвученного час назад. Я раз пять попросила ее помолчать, но мои слова — как об стену горох! Тогда у меня терпение лопнуло, я взяла в горсть ее роскошные, густые волосы, собранный в конский хвост, потянула и строго сказала: — Ты ко мне больше не подходи! Любка обиделась, ушла, проревелась, вернулась, извинилась: — Тома, прости меня, я больше не буду тебя доводить. — А зачем ты это делаешь? — А мне иногда нравится человека позлить, — честно призналась она. На следующий день воспитательница Нина Степановна сделала мне замечание. — Тома! Ты почему Любу обижаешь? Она за тобой ухаживает, а ты как себя ведешь! — Нина Степановна, а почему мне мешают, когда я занимаюсь? — принялась защищаться я. — Девчонки, действительно, не лезьте к Томе. Вас много, и если каждая будет приставать к ней со своими разговорами и затеями, то у нее не останется времени для себя, — заступилась она за меня. Я подробно описала этот случай для того, чтоб покаяться перед девчонками, которых обижала своей резкостью, отталкивала от себя, желая всецело погрузиться в изучение того или иного предмета. Мною тогда на три четверти управляла неукротимая тяга к знаниям. Слабое извинение, конечно. Вы, девочки, мои тогдашние подружки, уж простите меня, рвавшуюся к знаниям всей пылкой душой и немощным телом. Хочу поведать еще кое-что из того жизненного периода, когда я очертя голову бросилась в самообразование. Незадолго до моей отправки в ПНИ к нам поступили воспитателями две учительницы из общеобразовательной школы — выбыли оттуда по состоянию здоровья. Я чертовски обрадовалась: вот покажу им свои знания, пусть оценят и, может, подскажут, что учить дальше и по каким книгам заниматься, помогут, направят в самостоятельном обучении, дадут школьные программы. Но... Однажды в игровой, после занятий, вновь пришедшая учительница показала, на какие действия она способна и какими педагогическими приемами владеет. Сначала они с Любой Лабышевой мирно разговаривали, но потом Люба со свойственной ей назойливостью стала отстаивать свою точку зрения. Ничего ужасного и выходящего за рамки приличия в ее речах не было, со старыми работниками мы на подобные темы свободно полемизировали. Но тут началось нечто несусветное. Новая воспитательница схватила Любку за шиворот как нашкодившего щенка, потащила в палату, там собственноручно содрала с нее одежду, скинула матрас с койки и пихнула ее на голую сетку, приговаривая: «будешь знать, как перечить старшим!». После ее ухода мы успокаивали заходившуюся в рыданиях Любку всем наши девичьим коллективом. Но Любка была безутешна. Еще бы: почти взрослая девушка — и пережить такое унижение! После той экзекуции весь мой пыл пообщаться с новыми воспитателями на тему образования и испросить у них совета по самообучению мгновенно угас. Да и самообучению стали ставить палки в колеса. Если у старых работников я могла сидеть одна в палате и в тишине читать, то эта горе-воспитательница в свою смену загоняла меня вместе со всеми в игровую, шипя, что в игровой тоже можно читать. Как же: почитаешь под шум и крики играющих подростков! Я заставляла себя абстрагироваться от шумового фона и вчитываться в текст. Иногда мне это удавалось. И на какие только ухищрения я не пускалась, чтобы нормально спокойно почитать! Например, отпрошусь в туалет, а сама рулю в палату и тут же погружаюсь в чтение. Никто из старых воспитателей мне это в вину не ставил: ну сидит Черемнова одна в палате, читает, ну и что? Ничего ведь не натворит. Новые ворчали, но потом тоже смирились, с уважением отмечая: ну надо же, до чего ж девка жадна до книжек и до учебы. И добавляли: жаль, что увечная, на фига ей чтенье и ученье? Последние годы в детдоме В последние два года в детдоме ко мне уже не приставали и не придирались: выросла девушка, серьезная, начитанная, не требует особых забот, не причиняет никаких хлопот, имеет личную помощницу в лице подруги Любы и ничем не утруждает персонал. Все бы ничего, но здоровье мое стало стремительно ухудшаться — то ли от усердных самостоятельных занятий, то ли от чрезмерных внутренних переживаний. И шея побаливала все чаще, и голова гудела, и спина ныла. А однажды, сидя на первом этаже, я заглянула в висевшее на стене зеркало и сначала даже не поняла, что на моем лице не так. Глаза какие-то странные… А потом и воспитатели стали замечать, что у меня развивается косоглазие. Но никто не побеспокоился и не потрудился вызвать глазного врача (в случае необходимости в детдом вызывали врачей-специалистов) — все равно увезут в ПНИ и будет там лежать до самой смерти. В общем-то, верно рассудили детдомовские сотрудники. А что означало для взрослой девушки косоглазие — никто не призадумался. Когда я окончательно убедилась в том, кто глаза у меня смотрят вразнобой, то упала духом. И так придавлена жуткими диагнозами, а тут еще это прицепилось! Требовать осмотра окулиста наивно — все равно не пригласят и меня к нему не повезут. Да и можно ли что-либо исправить? Вряд ли… И я начала себя бичевать — как ночь, так закушу край подушки и захожусь в беззвучных конвульсиях. А в свою последнюю детдомовскую весну уже тосковала в открытую. Вынесут меня на улицу, сижу, читаю, вроде все привычно, а как посмотрю на цветущие деревья, как подумаю, что у меня сейчас тоже формально период цветения — юность — и захлестывает истерика, сама собой, независимо от моей воли. Воспитатели молча отвозили меня в сторону, чтобы не мешалась и не раздражала. Я проревусь в одиночестве, а горечь в душе все равно остается и отравляет все мое существо. И мрачные мысли сверлят, сверлят… Я сознавала, что у меня ничего не будет в жизни: ни любви, ни близкого человека, ни родного дома, — у меня будет только казенная палата, кровать, на которой неизвестно еще в каком состоянии и окружении я буду лежать. Но, несмотря на это, где-то в глубине души таилось крохотное зернышко надежды, оно неслышно лежало там и ждало своего часа. *** В детдоме зашелестел слушок, что мне скоро придет путевка в ПНИ. И не только я покину детдом: для остальных воспитанников нашей группы тоже готовили путевки — их увезут в Инской дом престарелых и инвалидов — там они будут жить и работать. В последние два года моего пребывания в детдоме в нашей группе уже не вели учебных занятий, вместо этого девушек учили вязать и шить. И тут я приняла живейшее участие, хотя руками владела плохо. Постигла теорию вязания и даже умудрялась подтягивать отстающих, помогая советами и направляя ход пальцев. До сих пор помню, как вяжется английская резинка, а как похожая на нее спортивная, могу кого угодно научить вязать носки, рукавицы, шапки, шарфы, несмотря на то, что у самой руки никудышные. До сих пор обидно: ведь воспитатели видели и мое участие в вязании, и мои учебные достижения, и никто ничего не предпринял, чтобы заступиться за меня и отправить не в ПНИ к психохроникам, а вместе с девушками в дом инвалидов общего типа. А между стационарами для психохроников и домами инвалидов общего типа — огромная разница! Конечно, я не могла участвовать в механических занятиях: шить, вязать и еще что-либо делать своими руками. Но я же могла приносить иную пользу: ведь, невзирая на диагноз, была довольно-таки интеллектуально развитой и начитанной, и это пригодилось бы. Понимаю: при выдаче путевок в стационары дальнейшего пребывания в первую очередь принимали во внимание диагнозы из истории болезни. Но ведь были и другие показатели! За две недели перед моей отправкой в ПНИ приехала медико-педагогическая комиссия. Дожидаясь своей очереди в коридоре, я с надеждой думала: вот откроет врач историю болезни, увидит, что указан не тот детдом, и поинтересуется, где же написано, что я живу здесь в Бочатах. А там прописан «Чугунашский детский дом». Вот и повод завязать беседу и показать, что я умственно полноценная и могу избежать дурдома. Но, увы, когда меня завезли в игровую, где комиссия вела прием, женщина-председатель зачитала мои диагнозы, мельком скользнула по мне взглядом, что-то буркнула нашей старшей медсестре, и меня оттуда вывезли, ни о чем не спросив и не дав сказать ни слова. Так что совсем не важно, где инвалид живет, можно написать хоть США, причем любой штат и любое учреждение. Вот так мой убийственный диагноз касательно отставания в умственном развитии, поставленный мне в августе 1964 года и до моей выписки из детдома 24 мая 1974 года ни разу не пересматриваемый, крест-накрест перечеркнул всю мою жизнь. Небрежность приезжих комиссий, попустительство местного персонала и непротивление моей матери. А как раз она, моя мама Екатерина Ивановна, могла бы вмешаться, опротестовать диагноз, доказать мою умственную полноценность. Екатерина Ивановна, что же ты натворила… *** Накануне моего отъезда в ПНИ в палату вошла Анна Степановна Левшина. Я сидела на кровати и читала книгу. Она присела на краешек и вымолвила: — Давно ты, Томка, у нас живешь — почти с открытия этого детдома… Мать-то не собирается хоть один разок перед отъездом взять тебя домой погостить? Уж можно было бы за столько лет один-то раз взять тебя домой? Я молча разглядывала ее лицо — стареющее, уставшее, с грубыми чертами, никакого намека на женское обаяние. Черствая недоброжелательная женщина с садистскими наклонностями, но даже в ней, оказывается, иногда просыпается сострадание. — Нет, тетя Аня, не возьмет она меня погостить… — ответила я растроганно, вспомнив свои многочисленные просьбы забрать домой, хоть на время, хоть на недельку, хоть на пару дней, других детей ведь забирали. И еще вспомнила, как однажды у воспитателей зашел разговор о наших родителях, и одна воспитательница сказала: «А мне Томина мама нравится, никогда ничего не требует». Да уж, удобная для детдома мама: ничего не требует для своего ребенка, не заступается, ни на чем не настаивает, на все закрывает глаза. Екатерина Ивановна и дальше будет удобной. Изредка, с частотой раз в квартал, будет появляться у меня и в ПНИ, и в Доме инвалидов, что-то рассказывать, показывать. Но никогда не будет вникать в мои проблемы и ничего не будет просить для меня — ни у персонала, ни у администрации, ни у вышестоящих органов. А Левшиной я даже в какой-то мере благодарна за ее строгость, бесконечные придирки, поучения и призывы «имей совесть!». Хочу описать один немаловажный и поучительный эпизод. Это произошло, когда к нам в детдом привезли новеньких из Кемеровского сборного детдома — две девочки и два мальчика, ни у кого не было родителей. Одна их них, Вика, видимо закаленная в борьбе за существование, была не в меру активной и боевой. А где-то через неделю мужчина-татарин привез сдавать свою дочь Наташу. Тихая татарочка Наташка вскоре сдружилась с Викой, вернее, безропотно подчинилась той, сразу же взявшей ее в оборот. И дошло до того, что эта добровольная рабыня стала отдавать своей повелительнице порционные пироги. Я, глотавшая книгу за книгой, не сразу усекла суть их далеко зашедших отношений и однажды, видя, что Наташа носит в палату пироги из столовой, оторвалась от чтения и попросила: — Наташа, принеси заодно и мне. И когда та с обеда принесла мне полпирожка, я поблагодарила и, не задумавшись, почему полпирожка, а не целый, тут же засунула всю половинку в рот и, жуя, уткнулась в книгу. — А мне почему не принесла? — вдруг слышу капризный голос ее закадычной подруги. — Мне всего лишь один пирог в столовой дали, половину я съела, а половину принесла Томе, — стала оправдываться Наташка. — Завтра я тебе принесу целых два, сама есть не буду. — Тогда не подходи ко мне, раз ты без пирогов, — заявила Вика, и Наташка отошла от нее грустная-прегрустная. — Вот принесешь пироги, тогда буду дружить с тобой. А когда я подняла глаза от книги и увидела лица Вики и Наташи — Викино грозно-повелительное и Наташино униженно-рабское — у меня пирог застрял в горле: оказывается, Наташка мало того, что отдает свои пироги Вике, она еще и мне свою порцию принесла. Получается, что я ничем не лучше этой «рабовладелицы» Вики, раз бессовестно отбираю чужие пироги! А если кто-то посильнее будет вот так же отбирать у меня? И я вспомнила разглагольствования Левшиной о наличии и отсутствии совести и ее увещевания на эту тему. Что ж, совесть она во мне пробудила. Но уж дальнейшее ее развитие и обретение понятий о морали, нравственности, достоинстве и чести — это я почерпнула из книг. *** Двадцать четвертого мая 1974 года я сидела в игровой, как всегда с книгой на коленях, томимая недобрыми предчувствиями. Дверь открылась, зашла медсестра. — Тамару на выход, — скомандовала она. — А что, ее уже отправляют в дурдом, да? — загалдели девчонки. — Тихо! Не пугайте Тому зря! Лучше идите и помогите ей переодеться, — приказала сидевшая с нами воспитательница. Переодевать меня пошли всей палатой. Люба с Наташей натягивали на меня одежки, остальные стояли молча. У нескольких девушек выступили слезы на глазах. Я же в тот момент ничего не чувствовала, как одеревенела. И только когда меня подняли в кузов крытой грузовой машины, я тихо заплакала. Но что именно ждало меня впереди — я еще не знала. В Прокопьевский ПНИ со мной в кузове грузовой машины везли еще четверых человек из «слабого» корпуса, и один из них, совсем больной на голову пацан, всю дорогу истошно кричал, и от этого мне становилось еще тошнее. Вот, Томка, с такими тебе предстоит жить дальше бок о бок, — думала я с горечью, не в состоянии остановить поток слез. — И сколько бы ты ни начиталась самых умных книг, все равно будешь под той же планкой, что и эти несчастные с поврежденными мозгами. — Не плачь, Томочка, может, там еще лучше будет, — успокоила меня нянечка из «слабого» корпуса, сидевшая с нами в кузове, и бережно промокнула мое лицо носовым платком. Слава Богу, сопровождавшая медсестра Елена Петровна сидела в кабине с шофером, а то бы непременно выступила, кинув что-нибудь колкое и едкое, типа «там тебе и место — в дурдоме — среди дурачков». *** Так прошли мое горестное детдомовское детство, отрочество и ранняя юность. (далее последуют части 3 и 4) Вместо послесловия Читая эту книгу, многие, наверное, ужаснулись и подумали: я бы не смог так жить. Родиться уродливой калекой, и такая убогая жизнь до глубокой старости? Ни за что! Ну что вам сказать по этому поводу? Да, иногда мучительно больно оттого, что у тебя нет в этой жизни многого, что есть у других. Я тоже хотела бы иметь семью, быть кем-то любимой. Не дай Бог вам изведать, что такое вынужденное одиночество, когда внутри тебя — обычная женщина! У меня тоже, так же как и у всех, может щемить о ком-то сердце. Но моя немощность и беспомощность… Ноги не ходят, руки не слушаются, глаза косят, да еще спазмы и гиперкинез производят жутковатое впечатление и отравляют существование… Ах, как же не хочется выделяться среди других своим кошмарным физическим состоянием! Ах, как же хочется встать и пробежаться босыми ногами по земле, по траве, особенно приятным летним вечером, когда спадает жара, и земля с травой теплые, мягкие, нежные. И как хочется хоть на часок, хоть на полчасика, хоть на десять минут почувствовать себя легкой и красивой! Но я пришла со своей миссией на эту землю — показать, что и в таком плачевном положении можно жить и очень многого добиться. Несмотря на физическое увечье, в любом положении можно преодолеть все. Много это или мало для человеческой жизни? Слишком ли дорого это для жизни одного конкретного человека? Если честно, не знаю ответов на эти вопросы, я не такая мудрая, но одно могу сказать: ничто не проходит бесследно, все наши страдания, эмоции редкой радости, ощущения любви — все это прочно записывается в памяти нашей души. И вот, наверное, сколько душа выстрадает на этом свете, столько она и получит потом. Душа — это то, что приходится совершенствовать человеку самому, и иногда на это не хватает одной жизни... Тамара Александровна Черемнова, член Союза писателей России (номер членского билета 818  , инвалид-колясочник (ДЦП). , инвалид-колясочник (ДЦП).
Рейтинг: +3 Отправить другуСсылка и анонс этого материала будут отправлены вашему другу по электронной почте. |
|
© 2008-2025, myJulia.ru, проект группы «МедиаФорт»
Перепечатка материалов разрешена только с непосредственной ссылкой на http://www.myJulia.ru/
Руководитель проекта: Джанетта Каменецкая aka Skarlet — info@myjulia.ru Директор по спецпроектам: Марина Тумовская По общим и административным вопросам обращайтесь ivlim@ivlim.ru Вопросы создания и продвижения сайтов — design@ivlim.ru Реклама на сайте - info@mediafort.ru Политика конфиденциальности |
|
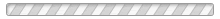
Комментарии:
Оставить свой комментарий